Я догадался об этом, когда увидел, как он перебирает бумаги, которые он вытащил из кармана и которые не были письмами. Со злобной гримасой, в которой, как это ни странно, сквозила покорность, он разложил их на столе, поверх моих невидимых знаков.
— Прочти — ты все здесь увидишь. Как? Почему? Что я должен прочесть?
Я различал отдельные буквы, но близкое к тошноте отвращение мешало мне осознать, что же они означают, словно я внезапно разучился читать.
— Я просил навести справки, — пробормотал он, краснея, — это отчет одного сыскного агентства, контора вполне солидная, сотрудничает с нашей фирмой.
Мне вспомнился случайно услышанный разговор о найме людей на работу, о том, что за новыми служащими, принятыми условно, ведется тайное наблюдение с целью контроля за их нравственностью, и в зависимости от результатов слежки решается вопрос об окончательном зачислении работника в штат. Так вот каковы были его реальные факты! Полицейский донос. Он предлагал мне прочесть полицейский донос на маму.
Я сделал вид, что читаю, но оказалось, что я в самом деле разучился читать, и я почти сразу же вернул ему листки без всякого комментария. Я ощущал теперь в сердце страшный холод, подобный той вечной мерзлоте, какой скована на Крайнем Севере почва независимо от времени года, и я твердо знал, что, несмотря на заветы Христа, я этих реальных фактов никогда ему не прощу. Они остались в моей душе навсегда, до самой его смерти.
Он сложил листки, сунул их обратно в карман, подозвал официанта, чтобы расплатиться по счету. Сознавая, очевидно, всю тщетность дальнейших попыток, он больше не сказал мне ни слова. Отцу явно со мной не везло.
Мне нравилось подробно распространяться о счастливых мгновениях своей жизни, и временами я уснащал их дополнительными прикрасами, которые в изобилии поставлялись мне моими горькими сожалениями.
Ж.-Ж. Руссо. «Прогулки одинокого мечтателя». Прогулка четвертая.
Этим крушением отмечен конец моего детства, им завершился процесс разрушения его первоначальных картин; для меня теперь не существовало больше богов.
Я буду и потом побаиваться отца, буду временами восхищаться его социальным успехом и некоторыми его интеллектуальными качествами, но никогда уже не смогу его уважать, не смогу испытывать к нему почтительных чувств, а мне этого так хотелось! Такова одна из великих печалей всей моей жизни.
Но что удивляет меня самого и представляется мне почти столь же невероятным, как и природа его реальных фактов, — это то, что я никогда не смогу от него полностью отдалиться, хотя со стороны порою казалось, что это произошло. Никогда в последующие годы я не относился к нему с безразличием, никогда не притворялся, что у меня нет отца, никогда не считал чужим человека, который меня породил. Ведь озлобленность — это все же, пожалуй, не ненависть, а здесь идет речь как раз об озлобленности, к которой, быть может, примешивалась и какая-то доля сообщничества или соучастия, но соучастия какого порядка?..
С другой стороны, этот удивительный переезд на новую квартиру и последовавшее за ним не менее удивительное утро, когда в кафе я впервые оказался с глазу на глаз с обладателем реальных фактов, имели следствием только лишь то, что мама еще глубже вошла в мое сердце, буквально вонзилась в него; отныне она была для меня уже совсем другим человеком, что я и предчувствовал, когда сквозь призму той подозрительной двусмысленной дыры, какую являла собой Ментона, смотрел на так трогавшую меня фотографию, где мама в пижаме стоит на фоне сверкающих неба и моря. Наши прежние, такие нежные и наивные отношения отошли в прошлое, я упорно не хотел знать, кто из них двоих прав, а кто виноват, меня удручал сам этот надлом, я воспринимал его как святотатство, как тяжелое оскорбление, нанесенное законам родства.
Да, я ощущал именно это: ни он, ни она не вели себя так, как следовало себя вести, согласно стародавним исконным нормам, и, пусть эти нормы были всего лишь условностью, для меня они обладали силой закона. Мои детские чувства были уязвлены.
Триединство семьи оказалось подорванным, хотя, если говорить честно, оно давно уже дало трещину, и все бесконечные ссоры и сцены таили в себе тоску по его нерушимости. Впоследствии я попытаюсь с грехом пополам воссоздать хотя бы подобие этого утраченного единства.
Тоску по прочной семье я буду ощущать даже после смерти родителей, даже перед их могилой, где на гладкой черноте мрамора, отделенные одно от другого лишь чертой на плите, высечены золотыми буквами их имена и проставлены даты их жизни на этой земле; буквы, которыми написано имя отца, за давностью лет потускнели, их пришлось подновить. Порою, не слишком часто, я сюда прихожу, смотрю на могилу и думаю про те супружеские пары в старом Китае, чей союз скреплялся лишь общим захоронением, — только тогда они наконец по-настоящему соединялись друг с другом… Близость между супругами, говорит комментатор, устанавливалась только к старости, когда половые различия между ними стирались и они сообща готовились к смерти. Их тела захоронят в одной могиле, дощечки с их именами поместят в одном зале — и они станут тогда единой четою предков… Мое желание исполнилось слишком поздно, но об этом я расскажу в другой книге.
Таков итог моего первого десятилетия. С должным ли уважением отнесся я к фактам? Не берусь этого утверждать. Я попытался передать все то романтическое и наивное, что пребывало в моем сознании постоянно, что смогло избежать забвения; но словам зачастую оказывается не под силу охватить весь комплекс тех неуловимых, граничащих с иллюзорностью отношений, которые проявляются на уровне образов и навязчивых мыслей, и это так трудно, может быть, потому, что слова пытаются перевести эти отношения в другой, более ясный, порой чересчур ясный план. Но, кажется, мне все же удалось очертить в какой-то мере то, что зовется судьбой, начиная с глубины двора, с этой мутности, мерцающей в глубинах комнаты, в прямоугольнике окна и скрывающей тайну моего рождения, по поводу которого я задавал себе столько недоуменных вопросов, испытывая странную тоску по зыбкому промежуточному состоянию и, возможно, уже предчувствуя все те тревоги и затруднения, которые ждали меня впереди; итог довольно неутешительный. Для меня уже почти невозможно снова вернуться в края, которые я покидаю и от которых, самим фактом изложения своих свидетельств на бумаге, я еще больше отделяю себя, ибо теперь я словно отсек от себя скальпелем детство и ощущаю лишь чистое, мифическое сожаление об утраченном счастье: слишком много теней повстречал я на этих дорогах.
Оживить эти тени был в состоянии опять-таки лишь я один, оживить, не дать им кануть в забвение; я, точно ожог, ощущаю потребность их воскресить, и часто сквозь неслышные посвисты ветра, бушующего в моих снах, я слышу в тревоге те же давние голоса, которые, обвиняя Бедокура, кричали ему: «Скверный сын! Скверный сын!», и скорбь черной тенью падает на могилу, там, на кладбище… И прежде, чем вы перевернете страницу, скажите, прошу вас, как сохранить навсегда в своем сердце весь этот мир…
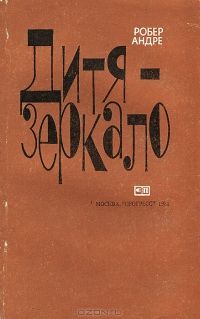


![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)

