Тем временем близится вечер, подготовивший нам еще один сюрприз. Опять-таки в угоду традиции, которая требует, чтобы вселение в новое жилище отмечалось праздничным застольем, мы тут же, едва успев приехать с вокзала, среди хаоса неразобранных чемоданов и в запачканной угольной пылью одежде устраиваем прием. Честно говоря, это импровизированное новоселье мало соответствует вкусам отца, противника светских приемов, но применительно к нашему вечеру выражение «светский прием» звучит слишком торжественно, потому что приглашена всего одна супружеская пара. Честь первыми войти в наш новый дом будет оказана супругам Пелажи.
Почему бы и нет? Время вносит некоторую двойственность в чувства, особенно если ими сопровождались многие этапы твоего детства. Я настолько давно знаю Пелажи, свидетеля моих бесчисленных болезней, самого близкого друга моих родителей, который значится в списке тех, кого ни в коем случае нельзя забывать, когда предстоит тяжелая работа по рассылке поздравительных праздничных открыток, что его следовало бы приравнять к нашим родственникам. А между тем мы не состоим с ним ни в каком родстве, и меня часто озадачивает его статут, который, впрочем, в сознании моих родителей претерпевает поразительные изменения: то, когда доктор в очередной раз спасает меня и входит в фавор, его осыпают самыми восторженными похвалами, и тогда, будь это возможно, Пелажи был бы возведен в ранг моего второго отца, причем это навязанное отцовство, даже если его воспринимать лишь в чисто духовном плане, будет всегда мне неприятно; то он впадает в немилость и сразу становится ничтожным лекаришкой, место которому на свалке, становится рохлей, юбочником, мерзкой личностью, и все эти любезности мама со свойственным ей прямодушием выкладывает ему прямо в лицо… Двусмысленность, больше того — полная запутанность, но нужно признать, что эта постоянная смена ненастья и улучшений погоды оказалась более благотворной для дружбы, чем была бы неизменная ясность, ибо, несмотря ни на что, Пелажи продолжает оставаться нашим другом, хотя это и кажется странным. И я снова теряюсь в догадках…
Больше ли ясности в моих чувствах к нему? Я по-прежнему был на него зол за то, что он приложил руку к моему заточению в интернат, но постепенно я начинаю понимать, что он сделал это не нарочно, не говоря уж о том, что он постоянно проявляет ко мне знаки внимания и любви, и мне трудно против этого устоять. Я, бесспорно, занимаю в сердце супругов, у которых нет детей, особое место, и мне это известно, к тому же доскональное знание моих болезней и то облегчение, которое я благодаря ему так часто испытывал, создали между ним и мною прочную связь. Разве можно такое забыть? И я этого никогда не забуду.
Мне до отвращения не хочется рассказывать об этом вечере, но рассказать про него нужно. Я боюсь, что допущу при его описании какую-нибудь неловкость, боюсь из-за важности места, которое он занимает в нашей жизни, боюсь оттого, что говорить о нем мне мучительно больно и становится все больнее по мере того, как я неотвратимо приближаюсь к своему рассказу. И ведь ничто, несмотря на владевшее мною беспокойство, не насторожило меня, и даже знаменитая мамина интуиция оказалась бессильной — вот что выше моего понимания, так же как самообладание постановщика этой сцены, его замечательное умение скрыть свои чувства! Ибо празднование новоселья началось самым естественным образом, в атмосфере всеобщего доброго настроения, под нескончаемые комплименты по поводу наших новинок, удачно выбранных ковров, размещения будущей мебели, картин, красивого тона стен, всяческих улучшений, которые будут произведены там-то и там-то, и хотя несовпадение вкусов вызывает при этом некоторые разногласия, но они носят поверхностный характер, никто не повышает тона, и Пелажи даже не выказывает ни малейшего признака ревности, которая обычно охватывает его при виде нашего успеха. Он только позволит себе чуточку поиронизировать над картинами. Если мой отец не имеет вкуса к литературе, то к живописи у него есть вкус, но вкус очень плохой, при полнейшем безразличии к критике и к общепризнанным художественным ценностям. «Зачем я буду вешать в своем доме картину, если мне на нее смотреть противно?»— говорил он, и ему нельзя отказать в логике.
После обхода комнат все садятся за стол в столовой, которая потом будет в нашей квартире упразднена. Мама достает фужеры для шампанского, а отец, весь преисполненный радушием, собственнолично отправляется на кухню и приносит припрятанную им бутылку. Этот жест гостеприимства был замечен и высоко оценен. Вспоминаю, что к концу первого акта драмы я тоже сделал на кухню набег, чтобы полюбоваться одной вещью, которой блистательно подтверждался факт нашего вступления в круг состоятельных буржуа. Речь идет о висевшем на стене приборе для вызова будущей горничной; это особого рода табло, где под стеклом расположены окошечки с надписями «прихожая», «столовая», «спальня мадам», «спальня мсье», «детская компата» и так далее. Вы нажимаете в своей комнате на звонок, соответствующее окошечко закрывается на табло белым диском, и горничная спешит на ваш вызов. Я с упоением жал и жал па центральную кнопку, заставляя появляться и прятаться белые диски, чем ввел в заблуждение наших гостей, потому что неотрегулированный прибор звенел громко и невпопад, словно произошла революция, слуги и господа поменялись местами, и горничная без конца вызывает своих бывших хозяев, требуя от них все новых и новых услуг. Этим развлечением я словно бы иронически отмечал конец вступительной части нашего вечера.
С оглушительным звуком вылетает пробка из шампанского, женщины с готовностью вскрикивают, изображая испуг. Из бутылки вырывается пена, заполняя торопливо протянутые фужеры, все чокаются, по комнате плывет мелодичный хрустальный звон, за здоровье всей вашей семьи! С новосельем, за ваше счастливое будущее, за все самое хорошее! Этот тост через несколько минут обернется чудовищным издевательством, и мне с той поры никогда не забыть искрящегося предательством шампанского, я возненавижу это банкетное пойло, меня еще долго будет бросать в дрожь при одном воспоминании о начале этой тягостной сцены, и передо мной, точно призраки, будут опять и опять возникать ее действующие лица, но не в своем нормальном обличье, готовые разыграть продолжение сцены, о которой я сейчас расскажу, а в причудливом сочетании с кадрами одного старого фильма, сильно напугавшего меня, как вы помните, в детстве, — с финалом фильма «Три маски», где Матамор и Арлекин поддерживают падающего Пьеро, который поначалу кажется смертельно пьяным, но которому, как потом выясняется, они всадили в спину кинжал.
Не совсем так, как персонажи этого фильма, а, скорее, подобно Улиссу на пиршестве женихов, отец тоже сбрасывает с себя маску. В самый разгар веселья он встает из-за стола, ненадолго отлучается из комнаты, чтобы тут же вернуться с последним сюрпризом в руках. Это деревянная шкатулка с металлической инкрустацией. Он осторожно ставит шкатулку на середину стола, и все с удивлением глядят на нее. Шкатулка принадлежит моей маме, и, насколько я помню, она прежде хранилась в спальне, на верхней полке шкафа с зеркалом, исчезнувшим ныне свидетелем моих бесконечных болезней. Да, конечно, она стояла там наверху, на сложенных стопкой простынях, рядом с подарками Деда Мороза и с тетрадью тайных опусов Ле Морвана. Ну-ка, посмотрим, что он такое принес. «Странный подарок! Можно подумать, что из шкатулки должен выскочить чертик, но отец извлекает из нее всего лишь связку писем, вынимает их из конверта, раскладывает перед Пелажи, перед его женой, перед мамой. Передо мной он не кладет ничего… В комнате сгущается тишина. Словно иод влиянием долго сдерживаемого гнева, отец сильно бледнеет, у него вздрагивают крылья носа. Я вдруг понимаю, что обмен репликами позади, что период медленного лицемерного вызревания завершился и сейчас разразится скандал.
В конце лета в Париже бывает жарко, точно на Юге, все тяжело дышат, все покрыты испариной. Гости переводят озадаченный взгляд с писем на бледное лицо отца.
— Что это такое? — бормочет Пелажи, комкая листок бумаги, точно это всученный коммивояжером рекламный проспект, от которого надо избавиться.
— Вы прекрасно это знаете, — отвечает отец, с трудом сохраняя спокойствие, — не станете же вы утверждать, что вам незнаком ваш собственный почерк.
Тогда Пелажи с недоверчивым любопытством склоняется над листком, а мама наконец вспоминает, что нападение — наилучший способ защиты.
— Что означает весь этот спектакль? К чему ты клонишь? И кто разрешил тебе рыться в мое отсутствие у меня в вещах? Я этого не люблю. Сейчас же верни мне шкатулку и письма.
Подобная тактика вполне оправдывает себя в тех случаях, когда неожиданность контратаки приводит противника в замешательство, однако на сей раз этого не произошло. Мама пытается быстрым движением схватить письма, но отец резко перехватывает ее руку, выкручивает и отбрасывает назад. Мама стонет от боли.
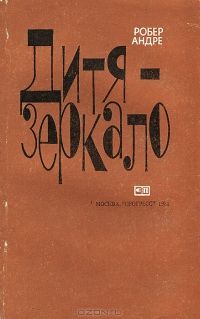


![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)

