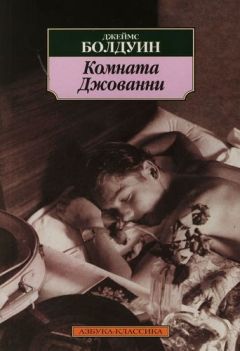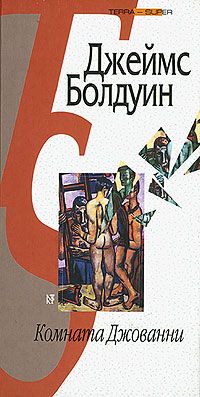– Ладно, – просиял он, – поедем в Испанию. Может быть, она напомнит мне Италию.
– А может, тебе больше хочется в Италию? Хотел бы ты съездить домой?
Он улыбнулся:
– Не думаю, что у меня там остался дом… Нет, не хочу в Италию. Наверно, по тем же причинам тебя не тянет в Штаты.
– Но я поеду в Штаты, – вырвалось у меня.
Он взглянул на меня.
– Я хочу сказать, что когда-нибудь туда поеду.
– Когда-нибудь… Всё плохое обязательно случится – когда-нибудь.
– А почему это плохо?
Он улыбнулся:
– Потому что ты поедешь домой лишь для того, чтобы увидеть, что это больше не дом. Тогда тебе действительно станет не по себе. Пока ты здесь, можно думать: «Когда-нибудь я поеду домой».
Он покрутил мне палец и улыбнулся.
– N'est-ce pas?
– Неоспоримая логика, – ответил я. – Ты хочешь сказать, что у меня есть дом до тех пор, пока я туда не еду?
Он рассмеялся:
– А что, разве не так? У тебя нет дома, пока ты не уехал, а потом когда покинешь его, то уже не можешь вернуться назад.
– Кажется, я уже слышал эту песенку.
– Ах да? – сказал Джованни. – И услышишь её, конечно, ещё не раз. Это одна из тех песенок, которые кто-то где-то всегда будет петь.
Мы встали из-за столика и медленно зашагали.
– А что будет, – спросил я праздным тоном, – если заткнуть уши?
Он хранил молчание довольно долго. Потом сказал:
– Иногда ты напоминаешь мне того, кто хочет попасть в тюрьму, чтобы не угодить под машину.
– Это, – ответил я резко, – скорее подходит к тебе, чем ко мне!
– Что ты хочешь сказать?
– Я говорю о комнате, об этой мерзкой комнате. Почему ты похоронил себя в ней так надолго?
– Похоронил себя? Прости, mon cher Américain, но Париж это не Нью-Йорк, и он не набит дворцами для таких парней, как я. Думаешь, мне следовало бы жить скорее в Версале?
– Но должны же быть, должны быть другие комнаты.
– Mais ça ne manque pas, les chambres.[133] Мир полон комнат – просторных комнат, маленьких комнат, круглых комнат и квадратных, комнат высоких и низких – любых комнат! В какой комнате ты бы хотел поселить Джованни? Сколько, ты думаешь, заняло у меня времени найти эту комнату? И с каких пор, с каких пор, – он остановился и ткнул меня пальцем в грудь, – ты так ненавидишь эту комнату? С каких пор? Со вчерашнего дня или с самого качала? Dis-moi.[134]
Посмотрев на него, я запнулся.
– Я не ненавижу её. Я… я не хотел тебя огорчить.
Он уронил руки. Глаза у него расширились. Он засмеялся:
– Огорчить меня? Теперь я тебе чужой, раз ты говоришь со мной так, с такой американской вежливостью.
– Я только хотел сказать, малыш, что мне хотелось бы оттуда уехать.
– Можем уехать. Завтра! Давай переберёмся в отель. Ты этого хочешь? Le Crillon peut-être?[135]
Я молча вздохнул, и мы пошли дальше.
– Я знаю, – взорвался он через мгновение, – знаю! Ты хочешь уехать из Парижа, хочешь уехать из моей комнаты, а?! У тебя нет сердца. Comme tu es méchant![136]
– Ты не понимаешь меня, – сказал я. – Не понимаешь.
Он угрюмо улыбнулся сам себе:
– J'espère bien.[137]
Позже, когда мы вернулись в комнату и принялись складывать в мешок вынутые из стены кирпичи, он спросил меня:
– Эта твоя девушка… Ты слышал о ней что-нибудь в последнее время?
– В последнее время ничего, – ответил я, не поднимая глаз. – Но она может теперь появиться в Париже в любой момент.
Он встал. Он стоял посредине комнаты, под самой лампочкой, и смотрел на меня. Я тоже встал, слегка улыбаясь, но в то же время чего-то смутно испугавшись.
– Viens m'embrasser,[138] – сказал он.
Я отдавал себе отчёт в том, что у него в руке кирпич, так же как и у меня. Было по-настоящему похоже на то, что, если я не подойду, мы забьём друг друга этими кирпичами насмерть.
И всё же я не смог сразу сдвинуться с места. Мы уставились друг на друга сквозь отделявшее нас узкое, полное опасности пространство, которое, казалось, ревело, как пламя.
– Подойди, – сказал он.
Я выронил кирпич и приблизился к нему. Через мгновение я услышал, как упал кирпич и из его руки. В такие минуты я чувствовал, что мы совершаем более долгое, менее очевидное, но беспрерывное убийство.
Наконец пришла долгожданная весточка от Хеллы, сообщавшая о дне и часе её приезда в Париж. Джованни я ничего не сказал и отправился один на вокзал встречать её.
Я надеялся, что, как только увижу её, что-то мгновенное и окончательное случится со мной, что-то, что покажет мне, где моё место и где я был раньше. Но ничего не произошло. Я сразу узнал её – до того, как она меня заметила. Она была одета в зелёное, волосы немного короче прежнего, лицо загорелое, и на нём та же сияющая улыбка. Я любил её с той же силой, что и раньше, но я не знал с какой.
Увидев меня, она замерла на платформе, ударила в ладоши, по-мальчишечьи широко расставив ноги и улыбаясь. Минуту мы просто стояли, уставившись друг на друга.
– Eh bien, – сказала она, – t'embrasse pas ta femme?[139]
Тогда я обнял её, и что-то произошло со мной. Я был невероятно счастлив видеть её. Казалось, мои руки, заключающие в себе Хеллу, были домом, который радушно её встречает. Она очень удобно, как всегда, помещалась в моих руках, и, потрясённый этим, я понял, что они оставались пустыми всё то время, пока её не было.
Я крепко сжимал её под высоким тёмным навесом, в людской толчее, рядом с пыхтящим паровозом. Она пахла ветром, и морем, и простором, и я чувствовал, что её фантастически живое тело готово сдаться.
Когда она отстранилась, у неё в глазах стояли слёзы.
– Дай-ка я на тебя погляжу, – сказала она.
Она держала меня вытянутыми руками, рассматривая моё лицо.
– Выглядишь прекрасно. Я так счастлива тебя видеть.
Я коснулся губами её носа и понял, что выдержал первый экзамен. Я взял её чемоданы, и мы направились к выходу.
– Как съездила? Как Севилья? Понравилась коррида? Ты не познакомилась с каким-нибудь тореадором? Расскажи мне всё.
Она рассмеялась:
– Всё – это слишком длинный список. Дорога была ужасная. Я ненавижу поезда. Хотела прилететь, но я уже летала однажды испанским самолётом и поклялась никогда в жизни больше этого не делать. Он так затрещал, мой милый, посреди полёта, как старый «Ти-Форд» (может, он когда-то и был «Ти-Фордом»), что я только молилась и глушила бренди. Я была уверена, что земли мне больше не видать.
Мы вышли на улицу. Хелла рассматривала всё с восторгом – кафе, самодовольных людей, шумный поток автомобилей, регулировщика в синем плаще-накидке, с белым сверкающим жезлом в руке.
– Возвращаться в Париж, – сказала она после недолгого молчания, – всегда так чудесно, откуда бы ты ни приехал.
Мы сели в такси, и шофёр, сделав широкий отчаянный вираж, вырулил в самую гущу машин.
– Мне кажется, что даже если приехать сюда со страшным горем на душе, то с ним можно как-то потихоньку примириться.
– Будем надеяться, – сказал я, – что никогда не подвергнем Париж этому тесту.
Её улыбка была одновременно лучистой и меланхоличной.
– Будем надеяться.
Она неожиданно взяла мою голову в свои руки и поцеловала меня. Её взгляд заключал в себе вопрос, и я знал, что она сгорает от желания сразу же получить на него ответ. Но я ещё не был готов к ответу. Я прижал её к себе и, закрыв глаза, поцеловал. Всё было между нами по-прежнему, и в то же время всё было не так.
Я решил про себя не думать о Джованни, не беспокоиться о нём – по крайней мере этим вечером, когда ничто не должно разделять нас с Хеллой. Но я прекрасно знал, что это невозможно: он уже разделял нас. Я старался не думать о нём, сидя один в его комнате и удивляясь, что так надолго там задержался.
И вот мы уже сидели в номере у Хеллы на улице Турнон и потягивали фундадор.[140]
– Слишком сладко. Это то, что пьют в Испании?
– Я не видела ни одного испанца, который бы это пил, – сказала она со смехом. – Они пьют вино. Я пила джин с содовой. В Испании мне почему-то казалось, что это полезно.
Она снова рассмеялась.
Я целовал её, прижимая к себе и стараясь найти прежний путь в неё, будто она была знакомой комнатой без света, где я на ощупь искал выключатель. И ещё этими поцелуями я пытался отсрочить тот момент, который сумеет или не сумеет соединить меня с ней. Думаю, она чувствовала, что эта неуловимая неопределённость между нами создавалась ею и зависела от неё. Она помнила, что в последнее время я писал ей всё реже и реже. В Испании почти до самого отъезда это, возможно, не так её беспокоило – по крайней мере до тех пор, пока она не решила испугаться, подумав, не пришёл ли я к решению, противоположному её собственному. Наверно, она позволила мне слоняться одному слишком долго.