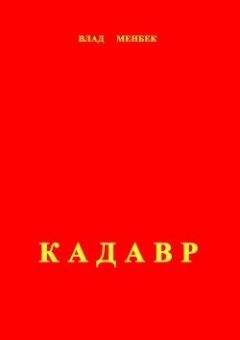Рождение, жизнь и смерть одной подпольной газетенки
Сначала дома у Джона Хайанза встречались довольно часто, и я обычно заявлялся под газом, поэтому не очень много помню о зачатии «Раскрытой Шахны», подпольной газетенки[40], и мне лишь много позже рассказали, что там произошло. Или, скорее, чего я натворил.
Хайанз:
— Ты сказал, что вычистишь сейчас всех отсюда, а начнешь с парня в кресле-инвалидке. Потом он заплакал, а народ стал расходиться. Ты ударил парня бутылкой по голове.
Черри (жена Хайанза):
— Ты отказывался уходить и выпил целую квинту виски, а также твердил, что выебешь меня, уперев в книжный шкаф.
— И выеб?
— Нет.
— А, ну тогда в следующий раз.
Хайанз:
— Слушай, Буковски, мы пытаемся сорганизоваться, а ты приходишь и все крушишь. Пьянчуги мерзее тебя я в жизни не видывал!
— Ладно, с меня хватит. На хуй. Кому нужны газеты?
— Нет, мы хотим, чтоб ты делал колонку. Мы тебя считаем лучшим писателем в Лос-Анджелесе.
Я поднял стакан:
— Да это, ебаный в рот, оскорбление! Я сюда не оскорбления слушать пришел!
— Ладно, тогда, может, ты лучший писатель в Калифорнии.
— Ну вот опять! Меня по-прежнему оскорбляют!
— Как бы то ни было, мы хотим, чтоб ты делал колонку.
— Я — поэт.
— Какая разница — поэзия, проза?
— Поэзия говорит слишком много слишком быстро; проза говорит слишком мало слишком долго.
— Нам нужна колонка в «Раскрытую Шахну».
— Наливайте, и я с вами играю.
Хайанз налил. Я вступил в игру. Допил и пошел к себе в трущобный двор, прикидывая, какую огромную ошибку совершаю. Скоро полтинник, а я ебусь с этими длинноволосыми бородатыми сопляками. Ох господи, ништяк, папаша, ох ништяк! Война — говно. Война — ад. Ёбть, так не воюй тогда. Я уже полвека это знаю. Меня это уже не возбуждает. О, и про дурь не забудьте. Про шмаль. Ништяк, крошка!
У себя я нашел пииту, выпил, плюс четыре банки пива, и написал первую колонку. Про трехсотфунтовую блядину, которую как-то выеб в Филадельфии. Хорошая колонка получилась. Я исправил опечатки, сдрочил и лег спать…
Началось все в нижнем этаже двухэтажного дома, который снимали Хайанзы. Возникли какие-то полудурочные добровольцы, затея была новой, и все от нее торчали, кроме меня. Я пристреливался к женским попкам, но все тетки выглядели и вели себя одинаково — всем по девятнадцать лет, грязно-блондинистые, маленькие жопки, крошечные титьки, деловые, дуровые и, в каком-то смысле, чванливые, толком и не зная с чего. Когда бы я ни возлагал на них свои пьяные лапы, они реагировали весьма прохладно. Весьма.
— Слушай, Дедуля, ты б лучше нам другое подымал — северовьетнамский флаг!
— А-а, из твоей пизды, наверно, все равно воняет.
— Ох, так ты точно старый срамец! Какой же ты… отвратительный!
И они отходили, покачивая у меня перед носом аппетитными яблочками ягодиц, а в руках держа — вместо моей славной лиловой головки — статью какого-нибудь малолетки про то, как легавые трясут на Сансет-Стрипе пацанов и отбирают у них батончики «Бэби Рут». Вот я, величайший из живущих на свете поэтов после Одена, а даже собаку и очко вдуть не могу…
Газета слишком распухала. Или же Черри принималась ворчать, что я валяюсь на диване бухой и пожираю глазами ее пятилетнюю дочурку. Еще хуже стало, когда дочурка завела моду взбираться мне на колени, елозить там, заглядывая мне в лицо, и говорить:
— Ты мне нравишься, Буковски. Поговори со мной. Давай я тебе еще пива принесу, Буковски.
— Давай скорее, лапонька!
Черри:
— Слушай, Буковски, старый ты развратник…
— Черри, дети меня любят. Что я с этим сделаю?
Малышка — Заза — вбегала в комнату с пивом и снова лезла ко мне на колени. Я открывал банку.
— Ты мне нравишься, Буковски, расскажи мне сказку.
— Ладно, лапонька. Жили-были, значит, один старик и одна миленькая маленькая девочка и заблудились они однажды вместе в лесу…
Черри:
— Слушай, старый развратник…
— Тсс, Черри, а ведь у тебя в голове грязные мысли…
Черри бежала наверх искать Хайанза, который в это время срал.
— Джо, Джо, мы должны вывезти эту газету отсюда! Я не шучу!..
Они нашли незанятое здание сразу же, два этажа, и как-то в полночь, допивая портвейн, я подсвечивал фонариком Джо, пока тот взламывал телефонный щиток на стене дома и переключал провода, чтобы можно было, не платя, поставить себе телефонные отводы. Примерно в это же время вторая в Л. А. подпольная газета[41] обвинила Джо в том, что он украл копию их подписного листа. Разумеется, я знал, что у Джо есть и мораль, и принципы, и идеалы — поэтому он ушел из крупной городской газеты. Поэтому бросил и вторую подпольную газету. Прям Христос. Еще бы.
— Держи фонарик ровнее, — сказал он…
Утром у меня зазвонил телефон. Мой приятель Монго, Гигант Вечного Торча.
— Хэнк?
— Ну?
— Ко мне Черри вчера ночью заходила.
— Ну?
— У нее был этот подписной лист. Она очень нерш мчала. Хотела, чтоб я его спрятал. Сказала, что Дженсен вышел на след. Я его спрятал в подвале, под пачкой набросков, которые Джимми-Карлик рисовал индийской тушью, пока не умер.
— Ты ее трахнул?
— Зачем? В ней одни кости. Эти ее ребра меня бы на ломтики располосовали.
— Ну, ты ж ебал Джимми-Карлика, а в нем было всего восемьдесят три фунта.
— В нем душа была.
— Да?
— Да.
Я повесил трубку…
Следующие четыре или пять номеров «Раскрытой Шахны» выходили с фразочками типа:
«МЫ ЛЮБИМ СВОБОДНУЮ ПРЕССУ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»,
«ОХ КАК ЖЕ МЫ ЛЮБИМ СВОБОДНУЮ ПРЕССУ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»,
«ЛЮБИТЕ, ЛЮБИТЕ, ЛЮБИТЕ СВОБОДНУЮ ПРЕССУ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА».
Любить стоило. Ведь мы отымели их подписной лист.
Однажды вечером Дженсен и Джо вместе поужинали. Потом Джо сказал мне, что теперь все стало «в порядке». Уж не знаю, кто кому вставил или что происходило под столом. И мне было все равно…
А вскоре я обнаружил, что у меня есть и другие читатели помимо увешанных фенечками и бородами…
В Лос-Анджелесе стоит новое Федеральное Здание — стекловысотное, модерновое и полоумное, с кафкианскими анфиладами комнат, и в каждой занимаются своими жабодромками; нее кормится со всего остального и процветает тепло и неуклюже, словно червячок в яблоке. Я заплатил свои сорок пять центов за полчаса парковки, или, скорее, меня на столько оштрафовали, и вошел в Федеральное Здание. Внизу размешались фрески, которые мог бы написать Диего Ривера[42], если б ему ампутировали девять десятых здравого смысла, — американские моряки, индейцы, солдаты ухмыляются, себя не помня, стараются выглядеть поблагороднее в своей дешевой желтизне, тошнотно-гнилостной зелени и обоссанной голубизне.
Меня вызвали в отдел кадров. Я знал, что не для повышения. Они взяли у меня письмо и усадили остывать на жесткий стульчик — на сорок пять минут. У них давно такая практика: типа, у тебя в кишках говно, а у нас нет. К счастью, по прежнему своему опыту, я прочел бородавчатую вывеску и расслабился сам, представляя себе, как всякая проходящая мимо девка впишется в постель с задранными ногами или будет брать в рот. Вскоре между ног у меня возникло что-то огромное — ну, для меня огромное, — и мне пришлось стыдливо пялиться в пол.
В конце концов меня вызвала очень черная, очень гибкая, хорошо одетая и приятная негритянка — высокий класс и есть даже чуточку души, а улыбка ее сообщала: сейчас тебя выебут. Но помимо этого улыбка намекала, что и сама негритянка готова подставить мне дырочку. Мне стало легче. Не то чтоб это имело значение.
И я вошел.
— Садитесь.
Мужик за столом. Вечно одно и то же. Я сел.
— Мистер Буковски?
Ну.
Он назвался. Меня не заинтересовало.
Он откинулся на спинку кресла на колесиках, уставился на меня.
Наверняка он ожидал увидеть кого-то помоложе и посимпатичнее, поцветистее, поинтеллигентнее на вид, повероломнее… А я был стар, утомлен, незаинтересован, похмелен — и только. Сам он выглядел серовато и солидно, если вы знакомы с таким типом солидности. Никогда не дергал свеклу из земли с кучей батраков, не попадал в вытрезвитель раз по пятнадцать — двадцать. Не собирал лимоны в 6 утра без рубашки, потому что знал, что в полдень жара будет 110 градусов. Только нищим известен смысл жизни; богатым и обеспеченным приходится лишь догадываться. Тут я ни с того ни с сего подумал, странное дело, о китайцах. Россия сдала; может, только китайцы и знают, выкапываясь с самого дна, устав бултыхаться в поносе. Но опять-таки я ж аполитичен — это еще одна наебка, потому что история всех нас в конечном итоге имеет. А меня обработали с опережением графика — испекли, выебли, выпотрошили, ничего не осталось.