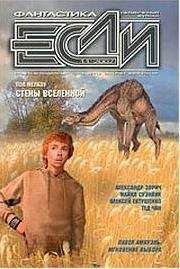«Как меня разыграли! — качал головой Семён, шагая к дому. — Я-то, дурак, всерьёз».
Вообще-то было немного обидно, а как было не простить актёру его шутки!
«Такая уж у него профессия, — оправдывал Романа пастух.
— Он без этого не может. Ну и не велик я барин! Шутки надо понимать».
Таким образом он понял шутку-розыгрыш, а поняв, простил. После чего и вовсе забыл свою обиду, словно ее и не было.
Дома у него хозяйничала Маня: она распахнула окна и двери, мыла и чистила, одновременно с этим топила печь, что-то там у нее варилось.
Первой мыслью Семёна было: не отнести ли новым знакомым чугунок со щами? Чего они там с голоду маются! Сидят, небось, на чаю с бутербродами. А тут говяжья мостолыга вворочена в чугун стараниями Мани! Глянешь — урчать хочется, как волку над свежатиной. И неплохо бы отнести им и чугунок с тушеной картошкой — картошка опять же с мясом — дух такой, что хоть танцуй с радости!
«Ну уж! Больно нужны им щи да картошка, — одёрнул себя Семён. — Сиди уж, деревня! Да они, небось, такого с собой привезли, чего ты и не едал никогда! Обрадуешь их щами с картошкой, как же! Небось, в ресторанах сиживали не раз, жареных медуз ели в горчичном соусе».
Этак ядовито о себе самом подумал и даже головой покрутил: эх, чучело ты гороховое! Но подумав так, тотчас же себя и оправдал: в Москве свои деликатесы, а в Архиполовке свои. И если разобраться, здешние ничуть не хуже столичных.
«А вечером наверняка будут пироги… и что-нибудь еще…»
Тут Семёна осенила идея, от которой он и есть не мог, а отдав Мане необходимые распоряжения, заспешил назад, к оранжевой палатке.
— Тут, это самое, вот какое дело: хочу пригласить вас в гости, — сказал он с отвагой в голосе. — Нынче вечером приходите, а? Не ради чего-либо, а просто посидим, поговорим. У меня овсяные блины будут — вы таких никогда не едали. Ради интересу, а? Вам таких ни в одном ресторане не подадут.
Сказал и со страхом смотрел на них: вдруг откажутся? Что им его угощение! Что им его беседа! Возомнил о себе.
«Вон Касьяшка знает свой шесток, и ты знай», — это запаниковавший Семён себя успел упрекнуть. А актёр переглянулся со своей подругой и отозвался простецки:
— Семён Степаныч, в гости на блины — это не бревна грузить, мы согласны. Верно, ведьмочка?
Та молчала. Кстати сказать, она была уже в новом наряде: в голубом платье с белыми звездами, длинном, до пят — сидела в соломенном креслице полулежа; может, и не соломенное то креслице, но похоже. Актёр возился с рыболовной снастью.
— Придёте? — с замиранием сердца спросил у нее Семён.
— Конечно, — ответила она и улыбнулась, поняв его страх.
— Вот это самое… спасибо. У меня там нынче хозяйка, она уже готовится. Я сказал, что будут гости…
— Непоследовательно и как-то даже непринципиально ведешь себя, Семён Степаныч, — добродушно укорил Роман, откусывая конец лески. — Вместо того чтоб вытеснить с берега, как вчера из своего дома, ты за нами ухаживаешь, молоком поишь и вот даже в гости зовешь. Как это понимать? Не от слабости ли характёра, а?
— Вы меня за вчерашнее простите, — жарко повинился Размахай. — Не разобравшись, что за люди, я вот так вот… У меня к вам претензий нет: вы и ходите-то, травку не приминая, уважительно. Если б все были, как вы, разве я возражал бы! Да ради бога, живите тут хоть круглый год, дышите воздухом, рыбку удочками таскайте — на всех хватит! Но люди всякие попадаются, многие обижают озеро… я и о вас плохо подумал. Дурак, чего говорить!
— Не, мы хорошие! — бодро подхватил Роман. — Лучше-то нас и нет никого на свете.
Подруга только головой покачала на его самохвальство. Он даже не обратил на это внимания.
— Но вы тоже меня поймите, — продолжал Семён. — Озеро — оно как яблоня при дороге. Никто ему не добавит ничего, но всякий норовит себе урвать. Все обижают, и свои, и чужие. Признаться, я никому не был рад. А что делать, чтоб сберечь? Ну, вот вы посоветуйте, как нам местным быть. Жалобы, что ли, в Москву писать? Не поможет. Сейчас, оглянитесь вокруг, вся земля стонет. Во всех газетах в колокола бьют: там кедрачи сводят, там реку отравили, там в озеро нефть спустили. Рыба мрет, зверье мрет, птицы мрут — даже мелкой живности спасенья нету: жукам, паукам и прочим. Надо же как-то защищаться! Я маленький человек, но что же мне терпеть? Ведь этак-то мне самому на горло наступают! Я так думаю: каждый должен в это великое дело свою кроху вложить, иначе пропадем! Но знать бы только, что делать, как поступать.
— Семён Степаныч, испокон веку свою родную землю обороняли, не щадя сил, — заявил актёр торжественно. — Я целиком и полностью одобряю твои любые действия по охране озера, вплоть до рукопашной.
Неплохо сказал, но то не нравилось Семёну, что он все время этак шутя говорил, не всерьез. Всё у него — игра: рыбу ли ловил, молоко ли пил, беседовал ли.
А женщина больше отмалчивалась.
— А по-вашему как? — спросил Размахай напрямик.
И уж так было отрадно ему видеть ее: сквозь платье ножки худенькие проступают, головка на тонкой шее, рука поднялась и опустилась на подлокотник невесомо — всё было любо Размахаеву Семёну! Смущали и повергали в остолбенение только глаза ее — они излучали силу и твердость, в них виден крепкий характёр и ум, способный царствовать и повелевать.
— Не знаю, — произнесла царевна-лягушка. — Я не привыкла к такому и просто не в состоянии все осмыслить. — Не нахожу этому разумного объяснения.
— У вас там все иначе? — спросил Семён осторожно.
— Да.
— Но у вас есть что беречь?
— Есть. Мы только тем и живы, что у нас есть что беречь. Поэтому я и удивляюсь, глядя на вас, на все это устройство вашей жизни. Нелепостей много.
— В чем же наша вина или беда?
— Думаю, вот в чем… в силу каких-то причин, боюсь, что они глубоки, вы не чувствуете друг друга. Вот хоть бы вы, Семён Степаныч, и Роман. Но я имею в виду не вас двоих, а всех здесь живущих. У вас отсутствуют душевные связи, нет средств ко взаимному пониманию, между вами пропасть или стена. Не чувствуете, не понимаете, превратно истолковываете, и в вас слишком сильные злые инстинкты. Вы отчуждены друг от друга. Я не знаю, как вам быть. Я затрудняюсь сказать.
Она порывисто встала, явно волнуясь, прошлась по траве — актёр обеспокоенно следил за ней. Эта вспышка ее волнения явно насторожила его.
— В одном только уверена, — сказала она, как заклинание, с непонятной страстью, — надо изо всех сил трудиться и очень любить друг друга, тогда наступит желанный мир, то есть мир, в котором все будет жить полнокровно: и человек в труде, и природа в своем творчестве.
Размахай выслушал эту речь и сказал горестно:
— Любить. Вы поговорите хотя бы с Валерой Сторожковым, он кромсает поля, дороги, опушки; он всегда готов повалить дерево, разорить гнездо или родник, убить зверя, птицу, и его ничем не проймешь. Вы не видели, что остается на этих берегах после туристов — хочется дрын в руки взять и лупить крест-накрест и правых, и виноватых. Какие слова нужны, чтоб их пронять? Нету у меня таких слов. Вы не знаете, что в голове у Сверкалова — он в любой день может подогнать технику, прорыть канаву и выпустить воду из озера — это называется мелиорацией.
— Увы, таких людей много у вас, — согласилась она. — И что самое плохое — именно они наступают, у них в руках инициатива, именно они забирают власть. Если такая тенденция сохранится, цивилизация обречена на самоуничтожение.
— Ну, этого мы не допустим! — бодро заявил Роман и закинул крючок с наживкой в озеро с таким видом, словно он этим самым что-то решал. — Как хотите, а я оптимист. Не сокрушай сердца, умница моя. И ты, Семён Степаныч, не кручинься. Утро вечера мудренее! Мы победим!..
— Если овсяных блинов поедим, — буркнул Размахай.
— О! — воскликнул актёр, обрадовавшись, что с серьёзного разговора вроде бы как свернули к шутке. — Я всегда говорил, что все сельские пастухи — поэты. Сознайся, Семён, ведь ты пишешь стихи.
— Я? Нет.
— По-моему, иначе быть не может. Он что-то скрывает, верно, ведьмочка?
Та опять села в свое креслице и со всепонимающей своей улыбкой оглянулась на пастуха.
— Я не пишу, — растерянно признался он. — Они сами сочиняются. Приплывают откуда-то, а потом я их забываю.
— Ах, вот в чем дело! «Не пишу» в смысле «не записываю», а сочинять — он тут ни при чем, они сами собой. Прочитай что-нибудь, Семён Степаныч, а?
— А чего не прочитать! Можно, — согласился тот и усмехнулся. — Вот, пожалуйста.
Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается…
— Э-э, нет, — запротестовал актёр. — Это мы знаем. Давай свое, свое.
Но Семён вместе с чтением стихов уже слегка затуманился ликом, что ясно указывало на то, что он сейчас впадает в свойственное ему остолбенение. Он продолжал: