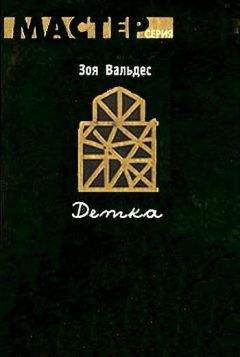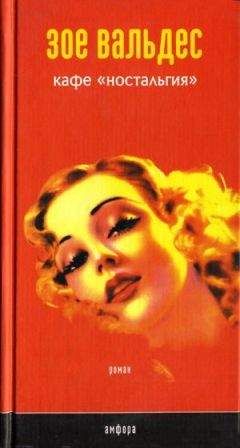Наконец появляется гробоподобный лимузин Старика. Громче музыка играй, пусть все обойдется миром – достаточно тех трупов, что навалил на экране Коппола. Но – обратите внимание – я делаю исключение к музыкальному оформлению «Крестного отца»:
Любовь, как чудо, нас связала, та-та-та…
Думаете, сейчас Старик вылезет из своего авто и поспешит мне навстречу? Черта с два. Это я обязан – такова иерархия – встать на ноги, превратившиеся уже в две промерзлые колоды, и помчаться ему навстречу, как медалист Атланты. Так я и делаю – медленно, как инвалид, ковыляю к полуоткрытой дверце. Протискиваясь внутрь, едва касаюсь губами его тощей морщинистой руки, и тут же секретарь протирает смоченным в спирте ватным тампоном место, оскверненное дыханием моего рта. Старик мнителен и любит преувеличивать. Вытягиваю ноги и непроизвольно пинаю шлюшку с бешенством матки, которая блюет чем-то лиловым и дергается, как цыпленок, которому только что свернули шею.
– Не обращай внимания, просто выпила не тот коктейль, – кивает в ее сторону Старик.
Коктейль, может быть, и тот, но не из того стакана, хочется мне ответить.
Старик без дальнейших преамбул начинает тараторить своим хриплым голосом, как пулемет.
– Все готово. Мы изучили дело до мельчайших подробностей. Момент настал. Они сами нас попросили, мы им нужны. Летишь ближайшим рейсом. Держи паспорт. Вот остальные бумаги. Все чисто, комар носа не подточит. С обеих сторон.
– Кто это «они», куда вы меня посылаете?
– Ты должен найти доллар. Они это они. Люди оттуда. Тебя ждут, хороший прием тебе обеспечен. Вопрос в том, сколько процентов им выделить, но это уже моя забота. Моя и их.
– А что с этим вонючим долларом?
– Не будь кретином. Его серия – номер нашего самого большого вклада в Швейцарии. Мы не могли воспользоваться им тридцать шесть лет, потому что банкнота прошита девятью золотыми нитями, каждая разной пробы. Это ключ, который у нас требуют, чтобы воспользоваться вкладом. Не хочу объяснять, почему мы выбрали для этой миссии именно тебя. Возвращайся с банкнотой или, мой тебе совет, совсем не возвращайся. О семье твоей я позабочусь, – саркастический смех, – все теперь в твоих руках. Я подписал наиважнейшие контракты… Они тебя ждут.
– Кто они?
Старик поворачивается ко мне, вне себя от ярости, и я не могу понять, то ли он собирается наброситься на меня с кулаками, то ли это просто нервное подергивание рук – один из симптомов болезни Паркинсона:
– Почти пятьдесят лет в нашей семье, а так и не понял, что есть они, о которых никогда не упоминают из конспирации! Да я тебя сейчас в порошок сотру, куча дерьма безмозглая! Если мы хотим вернуть доллар, самое лучшее – задавать как можно меньше вопросов! А вернуть доллар для меня – самое главное! Нам надо перестроиться. Мы не можем больше работать под мафию сороковых. Либо мы включимся в Интернет, как субкоманданте Маркое – даже он уже в Интернете, и даже сам Реджис Дебрай доверял технике, – либо превратимся в ископаемых, а для информационных сетей и CD-ROM нужны деньги, дурья башка! Ох, ох, защемило сердце, опять слишком расчувствовался.
Сердечная боль для него вовсе не сигнал, что завтра утром он, скажем, может умереть от инфаркта, – настолько даже сама мысль о физическом исчезновении стерлась из его памяти. Если он вдруг чувствует себя плохо, если у него что-то вдруг заболит, это расценивается как результат добрых чувств, проявление его благородной души, предлог, чтобы снова сжать зубы и стать еще большим сукиным сыном, чем он был до этого. Нет, когда я так говорю, конечно, я думаю о том, что все мы грешны и все мы смертны. Но только кого хочет уверить этот старый маразматик, что для него теперь главное – Интернет? Что-то у него свое на уме. В любом случае выбора у меня нет. Мою семью уже предупредили, что я должен выехать со срочной гуманитарной миссией в Кению. При современных достижениях пластической хирургии изменить мне внешность – плевое дело. Пятнадцать минут на всю операцию и пять – на заживление швов. Успехи медицины просто поразительны. Один из их громил будет сопровождать меня до Майами. За четыре часа пути он постарается познакомить меня с тысячью новых словечек, которые кубинцы придумали для доллара: «дракула», «зеленые», «баксы. Четырехчасовой инструктаж, после которого я тридцать– с лишним лет спустя вновь окунусь в жизнь гаванских низов. Может быть, с полным правом. Кто знает.
Тот же молодчик проследит за тем, чтобы я сел в самолет рейсом на Гавану. До сих пор так и не успел все хорошенько обдумать. Распахиваю чемоданчик. Просматриваю документы. По содержанию их, мой визит на Кубу носит весьма неопределенный характер – возможно, я пожелаю открыть новую ромовую фабрику. Я должен притворяться, что возвращаюсь в глубоком раскаянии за свой отъезд. Вот это, пожалуй, верно. Я совсем запутался. С другой стороны, все предельно ясно. Но я доверяю своей интуиции. А так как я всю свою жизнь в той или иной мере нес смиренное бремя служаки – хотя бывало всякое, – то и теперь я должен как можно быстрее усвоить новый приказ. Глубоко вздохнув, я откидываю голову на покрытое белым чехлом изголовье сиденья. А бомбы и саботаж? Забыто и быльем поросло? Сомневаюсь. Как только устроюсь, надо будет мигом приниматься за дело. Все в порядке, просто расшалились нервы – так что я с трудом сдерживаю позывы своих внутренностей. Терпеть не могу срать в самолетах. Сидя на унитазе, я вспоминаю милую мамочку. Первое, что надо сделать по прибытии, это навестить ее могилку. Да, я не люблю срать в самолетах, мурашки бегают по коже, кроме того я не знаю, на какую страну испражняюсь, на голову какого гражданина свалится мое добро. А потом я повидаю их – свою жену и дочь. Посмотрим, может как-то и удастся по-быстрому разрешить дело с этим вонючим долларом. Понимай – баксом!
Глава шестая
Кубинские слезы
О Куба моя прекрасная,
ты скорбно льешь слезы горючие.
Сейчас твое небо ясное
закрыли черные тучи.
(Авт. Элисео Гренет. Исп. Гилъермо Портабалес)
Я уже говорила вначале, что книгу эту написала не я. Я – труп, и не более. Та, кто диктовала и дальше будет диктовать той, живой, о чем надо писать, мертва. И пусть никому не будет обидно. Я решила стать веселым духом. Ведь и при жизни, а сейчас и вовсе, я представляла из себя всего лишь пляшущий скелет. Тем более нет поводов рвать на себе волосы. Хотелось бы, впрочем, обратить внимание на одну маленькую, но любопытную деталь. Правда о том, что произошло, принадлежит мне, а фантазия – той, что усердно переписывает мои чувства и воспоминания. Я хотела рассказать, как все было на самом деле, а она и не думает вылезать из своей тесной сырой каморки, которую соорудила на луне. Поэтому, если вы ничегошеньки не поняли, вина в том не моего стиля, а моей реципиентки. Я доверилась избранной. Но не во всем: я не могу чересчур доверять живым, ибо вижу их с высоты своей смерти. Я – существо бессознательное, тогда как у той, живой, сознаний целых два: истинное и ложное. Ладно, поглядим.
Нет, силком быть писателем человека не заставишь. Люди рассказывают мне свои истории, а я не могу слушать их спокойно – словно зуд какой начинает одолевать, и я чешусь, пока не начинаю записывать. Совсем особый случай, если в рассказчики набилась какая-нибудь скорбящая душа, тут и вовсе отказа быть не может – кто знает, проявишь небрежение, а она возьмет и утянет тебя в одну прекрасную ночку в иной мир. Потому что всякому ясно: никакой определенности на свете нет, и вообще ничего нет – до известного предела. Кто-то нашептывает мне, что все случилось примерно так или этак – следующим и вполне банальным образом:
Одинокой женщине, живущей на музыкальном и разбитном острове, в тысячу раз более нищей, чем Золушка, всего-то и нужно, что услышать пару тактов болеро, чтобы тут же размечтаться. О голубом принце с непременным кошельком, полным золотых. Прости, Джейн Остин, за невольный плагиат. Спасибо Гильермо Кабрера Инфанте за то, что одной из своих книжек навел меня на след «Гордости и предубеждения» – романа, который я должна найти сей же миг, чтобы, не дай Бог, не наврать в цитате. Глаз не сомкну, пока не прочту его до конца.
Правду сказать, я не имею ни малейшего представления о том, как сохранять верность этой чертовой действительности. Может, попробовать себя в драматургии, как делали бывшие советские писатели со своими детскими историями без начала и конца, но с обязательной моралью в финале. А может, лучше принимать мир как порнографический фильм, где персонажам нет нужды ломать голову над различными идеями, главное – письки и титьки, а мораль – долбись, вот тебе и вся мораль. В конце концов сама страна эта после тысяч и тысяч кассет, которые с риском завозил сюда какой-нибудь оборотистый греческий моряк во время своих бесконечных кругосветных плаваний, стала похожа на тертую шкуру. «Тертая шкура» по-гавански это порнографический фильм, пленка которого вытерлась настолько, что ее едва можно смотреть. Как бы там ни было, в обоих случаях все начинается одинаково: жила-была некогда женщина, страстно влюбленная, невиданная страдалица, горемыка, каких и на свете-то уже не осталось. Жила, зачарованная морем, пальмами, улицами, тенистыми порталами, солнышком, которое светит и греет, – словом, всем тем мишурным кубинизмом, который на слух так отзывает венерической болезнью: трахалась тут вчера с одним, подцепила кубинизм – никакой пенициллин не помогает. Верно?