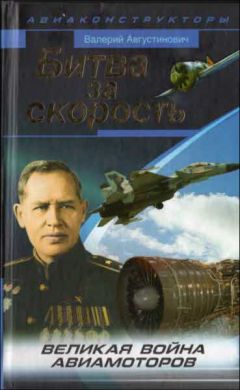От голода ли, от контузии ли, но с памятью у Иванникова совсем ни к черту. Чтобы что-то вспомнить, приходится долго блуждать в своем прошлом и связывать события единой нитью. Особенно трудно вспомнить то, что было совсем недавно. Зато далекое вспоминается само, приходит без спросу и без усилий — все детство да молодость, и почему-то лето в пору сенокоса…
Но тут вдруг вспомнилась отчего-то фамилия нового взводного: Амиррахматулбаев. И почудилось, что где-то совсем уж рядом движутся к Батайску наши танки, и на них его взвод. И ведет эти танки капитан Скучный с обожженным лицом. И вовсе он не погиб. И почему он должен погибнуть? Танк подбили, а сам он выскочил и пересел на другой. Известное дело. Вот и в его санях было восемь человек, а видел он на снегу только троих. Да сам четвертый. А где остальные? То-то и оно. Так что пушки стреляют — это хорошо, это они специально отвлекают внимание, а танки идут тихо, крадутся по балочкам да распадкам, и не успеют фрицы очухаться, а они тут как тут…
Плохо только, что луна вышла не вовремя: заметят их немцы раньше времени. Но ничего. Их тоже тогда заметили, а они все-таки прорвались. Главное, что немцы не ожидают. А они — вот они. И тогда он посчитается со всей этой сволочью. Они их тоже разденут, и пусть околевают на морозе. А потом он с Абдуловым сядет за самовар и будет пить горячий-прегорячий чай. И чтобы крепкий-прекрепкий. И другие пленные тоже. То есть уже не пленные. А еще ему, быть может, дадут отпуск. Хотя бы на несколько дней. Ему бы только заскочить домой и одним глазком…
Нога наступает на что-то твердое. Иванников ковыряет носком валенка — на снегу лежит немецкий плоский фонарик. Видать, отцепился от пуговицы конвоира, когда тот тузил Иванникова. Стрельнув глазами по сторонам, а из-под локтя назад, сержант схватил фонарик и сунул его за пазуху.
Зачем он это сделал, и сам не знал, но сделал решительно, ни секунды не раздумывая. И так же решительно, энергично работая лопатой, передвинулся вплотную к штабелю ящиков и спрятал фонарик под брезент.
28. 24 января 1943 года. 22 часа 15 минут. Небо
Синоптики на этот раз не ошиблись: прошло полчаса полета, облака стали редеть, и вот уже в окнах между ними показалась земля, вся в пятнах лунного света и теней.
Эскадрилья шла сомкнутым строем, неся в бомболюках двухсотпятидесятикилограммовые бомбы. Вот справа свет луны вспыхнул на куполе Ростовского собора, вот засветились голубые мечи дежурных прожекторов. Под крылом проплывал Батайск: груды пятен, обозначающих хаты и какие-то строения, изогнутая нить безжизненной железной дороги.
— Командир, — раздался в наушниках голос штурмана, — вижу внизу световой сигнал.
— Морзянка?
— Никак нет, не морзянка. Кто-то сигналит фонариком.
— Понял тебя, — ответил Баранов и подумал: «Батайск — пустое место. Если бы там что-то было, немцы натыкали бы зениток и не дали нам так спокойно летать над собой. Но ведь зачем-то он сигналит…»
— Прошли Азов, — доложил штурман.
— Понял. Следить за воздухом.
Сейчас эскадрилья повернет на юго-запад, чтобы идти в квадрат наиболее вероятной встречи с транспортом немцев.
Но что это?
Что-то изменилось в привычном гуле моторов. Похоже, что правый… Баранов кинул взгляд на приборы: давление масла в правом двигателе стояло на нуле, а температура подходила к красной черте.
«Ах ты, дьявольщина! Этого еще не хватало!»
И тут же прозвучал голос стрелка-радиста:
— Командир, за правым мотором наблюдаю след. Думаю, травит маслосистема.
— Вижу, — буркнул Баранов и включил внешнюю связь: — Первый, я — девятый! Первый, я — девятый! Течет масло из правого мотора. Температура близка к критической.
— Возвращайтесь на базу, — после непродолжительного молчания ответил командир группы. — По пути можете пощупать Батайск: там наблюдался световой сигнал.
— Понял, — ответил Баранов и выключил правый мотор. Потом, используя вращательный момент, создаваемый левым мотором, развернул бомбардировщик, устранил вращение рулем поворота и, теряя скорость и высоту, лег на обратный курс.
29. Земля. 22 часа 15 минут — 22 часа 20 минут
Иванников забился в узкую щель между штабелями ящиков и то нажимал, то отпускал кнопку фонарика. Но ровный, тяжелый гул многих самолетов все стихал и стихал, смещаясь на запад, пока не растаял вдали. Вот уже погасли прожектора со стороны Ростова, и лишь луна да ветер, да шорох снега по брезенту, да рев отъезжающих грузовиков, да команды на ненавистном языке.
Его еще не кинулись, но вот-вот кинутся, и тогда… На что он надеялся? Разве он не знал, что они летят на задание, что у них приказ, что они попросту не имеют права отвлекаться? Уж это-то он мог бы сообразить. А теперь… Все бессмысленно. Все! Бессмысленно даже сигналить, когда они полетят назад: бомб у них уже не будет…
Иванников втискивается еще глубже под брезент, словно это может спасти его. Сейчас он чувствует себя так же, как и тогда, на хуторе: безразличие и сонливость наваливаются на него неподъемной тяжестью. Выбираться наружу? Но его тот час же засекут. Было бы хоть какое оружие — нож ли, лом ли. Тогда бы он так просто им не дался. Что так, что эдак — все одно смерть. Лучше, если быстрее…
Ну уж, нет! Он вцепится в глотку фрицу, что бил его, и живым они его с этого фрица не стащат. Вот только отогреть пальцы: он их совсем не чувствует. Даже кнопку фонарика нажать — целое дело.
Иванников снимает рукавицы и засовывает пальцы в рот. Пальцы холодные, как льдинки. А ему нужна гибкость, сила. Он кинется отсюда, из этой щели, вцепится в горло… Только в горло! Да! Уже теплее… А дома, в деревне, уже спят… На печи тепло, пахнет пылью, глиной, старой овчиной… отец похрапывает за занавеской… в закутке топчется телка, тянет парным молоком и квашней… а отец вот расхрапелся, вот выводит…
Иванников встряхивается, высовывает голову наружу, подставляет небу левое ухо: надрывно, взахлеб гудит где-то совсем рядом самолет. Наш или немецкий? Но немецкого они тут за все время не слыхали ни разу…
Похоже, что наш…
Но почему он так воет? И что-то уж очень рано возвращается… А вдруг его специально вернули, чтобы проверить, сигналил кто или нет?
Иванников направляет фонарик вверх, прикрывая его телом так, чтобы отсветы не заметили на сторожевых вышках. Он нажимает кнопку и отпускает, нажимает и отпускает…
30. Небо. 22 часа 20 минут — 22 часа 22 минуты
— Командир, снизу опять сигналят! Может сыпанем? Все равно где-то бросать надо, — волнуется штурман.
Баранов чуть завалил самолет на крыло и посмотрел вниз: крохотной сиротливой точкой там пульсировал огонек.
Да, с бомбами садиться нельзя. Не положено: мало ли что. Может, и вправду сыпануть? Ведь зачем-то он сигналит… И даже если это провокация… Хотя к чему, спрашивается, устраивать здесь немцам провокацию? Чепуха!
От Ростова заметался по небу один луч прожектора, второй, третий… Ого! Не нравится фрицам! С чего бы это?
— Внимание! — говорит Баранов в пустоту. — Приготовиться к атаке. Следить за воздухом!
Он включает остывший правый мотор, набирает высоту, разворачивается…
31. Земля. 22 часа 22 минуты — 22 часа 24 минуты
Гул самолета изменился, стал ровнее, мощнее, но он уходил, растворялся в лунном свете, в свисте ветра, в шорохе снега. Это было несправедливо. Это было предательство.
Иванников послал вслед удаляющемуся самолету несколько отчаянно длинных сигналов.
Летчик, который ведет этот самолет — неужели он не понимает? Неужели нет сил, которые могли бы подсказать ему, внушить, что нельзя… что он не имеет права… что не ради своей шкуры залез Иванников в эту щель?..
— Помоги, Господи! — шепчет Иванников в исступлении. — Внуши ему, Господи! Спаси и помилуй раба своего, пресвятая Дева! Я не верил в тебя, Господи! Не верил! Но если ты поможешь мне, я поверю. Только внуши ему, чтобы он не улетал, чтобы вернулся! Не за себя молю, Господи! Не за себя — ты же видишь!
Иванников силится вспомнить хоть какую-нибудь настоящую молитву, каким когда-то учили его в церковно-приходской школе, но ничего не вспоминается, и он продолжает твердить одно и то же:
— Господи, спаси и помилуй раба своего! Спаси, Господи! Что тебе стоит? Или тебе, паскуда, все равно, кому творить добро, а кому зло? Или ничего не видишь? Или не боишься, что прокляну? Так прокляну же, мать твою Господа!..
И тут же, испугавшись:
— Нет, нет, Господи! Нет! Это я не то! Прости, Господи, раба своего! По неразумению… Сам видишь: по неразумению своему кляну тебя. Спаси и заступись! Христом Богом молю тебя, Го-ос-споди-иии!..
Совсем рядом зазвучали голоса немцев, и среди незнакомых слов все чаще раздавалось слово, казалось, созданное специально для пленных: «Шнель! Шнель! Шнель!»