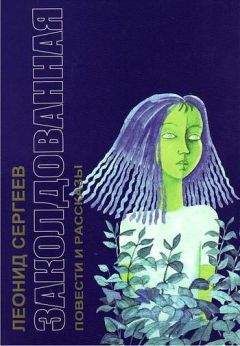— Больше военную технику портить не будете?
— Не-ет! — разноголосо пропели мои младшие.
— Тогда входите!
Сестра с братом переступили порог… на полу красовались игрушечная легковушка и кукла с большими глазами.
— Забирайте! Ваше! — сказал офицер и улыбнулся, а мне подмигнул.
Кудрявого офицера звали Петр Николаевич; с ним связан еще один зимний эпизод. Как-то фантазер Ялинский, в пик нашей дружбы, придумал потрясающую вещь — самодеятельный театр. Он взялся за дело рьяно: сколотил труппу, в основном из дошколят (в нее вошли и мои сестра с братом), подобрал пьесу, мне поручил делать декорации из фанеры и тряпья, сам осуществлял режиссуру. Репетировали на кухнях — то в одном доме, то в другом, при этом Ялинский предельно вежливо спрашивал жильцов:
— Вы не будете возражать, если мы на кухне недолго порепетируем? Очень тихо?
Надо сказать, «мелюзга» с огромным энтузиазмом и добросовестностью относилась к своим ролям и, разинув рот, ловила каждое слово «режиссера». Когда спектакль был готов, встал вопрос: где играть? Ялинский и здесь оказался на высоте — предложил обратиться за помощью к Петру Николаевичу. Он сказал просто и убедительно:
— В армии самые находчивые люди, и у них есть все.
Мы ввалились в приемную лейтенанта всей труппой. Он ничему не удивился и, будучи человеком с юмором, прежде всего выяснил, кто у нас главная героиня.
— Эй, Алька, где ты там? — бросил я «артистам».
Вперед вышла пятилетняя пигалица и объявила:
— Я!
— Ну тогда все ясно, — кивнул Петр Николаевич. — Поможем. Поговорю с директором клуба хлебозавода. А для гастролей — я надеюсь, вы покажете свой театр и в других местах — выделим автобус и грузовик для декораций.
Петр Николаевич действительно договорился с директором клуба и нам «забили» один из воскресных дней для спектакля. Но накануне на заключительной репетиции (в нашей кухне) Кириллиха сказала:
— Ничего у вас не получится… Не позорьте своих родителей.
Заметив, что мы сникли, она пояснила назидательным тоном:
— Театром должен руководить настоящий артист. У меня есть племянница. Она занимается в драмкружке, идите к ней. Если уговорите, она вам поможет.
Ее племянницей оказалась двенадцатилетняя высокомерная, напыщенная девица; она явно страдала манией величия и встретила нас нескрываемо сухо; провела в комнату, уселась на стул, закинув ногу на ногу и произнесла «поставленным голосом»:
— Покажите отрывок из вашей пьесы.
Наши артисты стушевались, но все же кое-что изобразили.
— Не годится! — возвестила девица, и дальше надменно стала разбивать нашу постановку в пух и прах.
Кончилось все это тем, что она отстранила Ялю от режиссуры, мне приказала переделать декорации, главную роль забрала себе (Алька с ревом убежала), а в остальной «труппе» закрутила такие интриги, до которых и взрослому театру было далеко. Но самое печальное — она превратила наше, пусть дилетантское, наивное, но чистое и искреннее «искусство» в правильные штампы, которым ее обучали в драмкружке. И уж совсем поступила коварно, когда в день спектакля заявила, что «плохо себя чувствует и спектакль придется отменить» (по всей видимости, ее прихватила «звездная болезнь»). А ведь мы уже написали объявление, изготовили пригласительные билеты…
У лейтенанта Петра Николаевича была «дама сердца» — тетя Даша, стрелочница с зеленым и красным флажками. Будка стрелочницы находилась у переезда, где дорогу пересекала железнодорожная ветка, тянувшаяся по окраине. Целыми днями тетя Даша подметала дощатый настил, протирала шлагбаум и сигнальные огни, и приветливо здоровалась с нами по два раза — когда мы шли в школу и когда возвращались из нее.
Маленькая, худая, косоглазая, тетя Даша в войну потеряла мужа и растила двоих малолетних детей. Было доподлинно известно, что раньше она работала на хлебозаводе, но после войны к ней стал наведываться вернувшийся с фронта лейтенант Петр Николаевич. Жена лейтенанта, сутулая, нескладная женщина с вытянутым подбородком (ее звали «Лошадиная голова») постоянно пилила мужа за «постыдные визиты к косоглазой Дашке», на что Петр Николаевич (совершенно правдиво) говорил:
— …Хожу не к ней, а к ее детям. Ей одной тяжело растить детей и я приношу мелкие подарки.
Эти благородные доводы не успокаивали жену лейтенанта — детей у них не было и, вероятнее всего, она ревновала мужа не столько к «Дашке», сколько к ее детям. Так или иначе, но однажды жена лейтенанта нажаловалась на мужа его начальству. Петра Николаевича понизили в звании (до младшего лейтенанта) и с места службы перевели на склад снаряжения. А тете Даше на хлебозаводе вынесли «общественное порицание», после чего она уволилась и перешла работать на железную дорогу.
Доподлинно не известно, но по слухам, после этого случая у лейтенанта со стрелочницей и в самом деле начался тайный роман, как говорят — «назло всему и всем».
Летом мы часто рыбачили. Иногда на речку ходили через кладбище по узким аллеям, заросшим акацией и плодами брызгалки «болиголова». Перед входом на кладбище калеки-нищие просили подаяние; многие говорили, что одни из этих нищих — пьяницы, а другие — миллионеры; будучи подозрительным, я верил во второе.
Сразу за входной аркой кладбища стояла церквушка с блестящими луковицами куполов, над которыми, как бумажный сор, кружили вороны. Перед церквушкой обычно сидел поп с богомольными старухами. У попа была длинная, запыленная снизу ряса, редкая, в серебристых кольцах борода и близко поставленные глаза; на его губах, как змейка, играла ехидная ухмылка. Я никак не мог понять ее смысла; одно время мне казалось — он мнит себя всепонимающим мудрецом, но потом понял — его рот просто свела судорога от каждодневного бормотанья заученных фраз.
За церковью начинались аллеи кладбища. Первые места около церкви считались лучшими; здесь изгороди окаймляли довольно приличные территории, некоторые размером с волейбольную площадку — за их решетками высились склепы, холодные мраморные изваяния, надгробья и плиты с фотографиями, посвящениями и венками из железных цветов. По мере удаления от церкви огороженные квадраты для усопших уменьшались, а на окраине, над обрывом к реке, были уже такими крохотными, что похоже, в них хоронили стоя.
Много раз я видел похороны, но слово «смерть» до меня не доходило (даже покойников в гробу считал просто уснувшими); моя жизнь только начиналась, и казалось, ей не будет конца. Во всяком случае, я не мог поверить, что когда-нибудь умру. Погибнуть — еще туда-сюда, это еще мог представить, особенно геройски и при свидетелях. Но просто умереть — ни за что! Я был убежден, что буду бессмертным или, по крайней мере, проживу дольше всех.
Наверное именно этим объясняется моя тогдашняя бесшабашная храбрость. Мне ничего не стоило броситься вниз головой в незнакомый омут или влезть на нашу высоченную березу и раскачиваться на тонких ветвях; я был уверен — надо мной постоянно витает ангел-хранитель; да, собственно, и сам являюсь ангелом (уже говорил — это внушила мне тетя). Ну а ребята, естественно, не сомневались, что я отчаянный смельчак. Понятно, такое положение дел меня вполне устраивало. Больше того, я догадывался, что восхищение надо поддерживать, и с этой целью время от времени выкидывал какой-нибудь трюк, рассчитанный на публику: влезал по водосточной трубе на крышу двухэтажного дома или на карнизы верхнего этажа.
Мои восхождения пользовались огромным успехом у прохожих, ведь я не просто лез, а и еще играл на нервах у зрителей: то делая вид, что соскальзываю, эффектно замирал в воздухе и висел на одних руках, то закрывал глаза и раскачивался — притворялся, что теряю сознание. Эти театральные сцены производили сильное впечатление — как-то я чуть не отправил на тот свет от сердечного приступа свою мать.
Однажды, чтобы закрепить за собой славу храбреца, я объявил, что ночью пройду через кладбище. Это считалось равносильным самоубийству: среди мальчишек только и говорили о разных духах и шатающихся по ночам мертвецах.
В ту полночь приятели проводили меня до входной арки, подождали, пока я дошел до церкви, и побежали вокруг кладбища встречать меня у реки.
Как только я вошел в аллеи, меня обволокла густая тьма с сырым могильным запахом; от мраморных плит и крестов повеяло таким холодом, что меня начало знобить. На мгновение я пожалел о своей затее, но, вспомнив про ангела-хранителя, пересилил страх и пошел в темноту.
Чем дальше я углублялся, тем становилось холоднее и сильнее сгущалась тьма; но главное, над всем надгробным царством стояла жуткая тишина. То тут, то там лопались перезревшие стручки акаций, и звук падающих горошин казался какими-то голосами из-под земли. Несколько раз мне чудилось, что за могильными холмами кто-то прячется, но каждый раз я вовремя вспоминал о своем бессмертии и успокаивался.