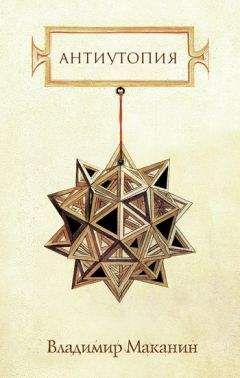Мне не хотелось идти к продавцам. Я вполне мог понять, что сын, куда более плечистый, чем Илья, ни носить, ни сдавать на перепродажу «барахло» не станет. Оставив свой танк, он приехал и был на похоронах десять дней. Забот у него было достаточно. Тоже понятно. Но сын уже уехал, и жена, на мой взгляд, спустя время, могла бы сделать дело сама.
Если жена, или даже бывшая жена, решила вещи умершего снести в магазин, она снести их сумеет, лишний раз дотронувшись до его одежды, до гладкой изнанки карманов теплой рукой. Так подумалось – ведь правил нет, и только внутреннее чувство нам в каждом таком случае что-то глухо нашептывает.
Но едва я заикнулся, мол, мне, как и вам, к продавцам идти не хочется, она вскрикнула:
– Как вы можете?! – И выскочила за дверь его комнаты, вся полная гневом и болью.
Возможно, я сделал какой-то промах. Возможно, тут тоже была ранимость, которой я не угадал. Бывает.
Я согласился. Точнее сказать, уже после ее вскрика я знал, что я соглашусь. Я остался сидеть один на один с его шкафом, распахнутым на одну дверцу, нет-нет и поглядывая на свисавшие параллельно рукава пиджака и рубашек. Посидел, вздохнул и помимо воли подошел ближе, был рядом еще и маленький шкаф, где его брюки и джинсы.
Я вынул в один прием, ворохом, и хотел кинуть на диван. Но передумал, надо быть спокойнее. Повесил вновь. И стал вынимать на тремпелях, на «плечиках», как говорили у нас когда-то, – вынимал, вертел на тремпеле туда-сюда перед глазами, оценивал и, если считал, что годится для комиссионщиков – приблизительно, разумеется, как я еще мог оценить! – складывал на диван.
Там, на их кухне, я услышал ее шаги и льющуюся воду: быть может, в чайник для чая, но, быть может, в стакан для успокоения. Я догадался, что она сюда уже не войдет – это я должен пойти извиниться и сказать, что я согласен.
Я знал, что извинюсь, что ходов мне тут больше нет, но какое-то время я что-то в себе преодолевал. Перебирая его вещи, я старался его видеть. Ведь в последний раз. Вспомнил, как в этом костюме и с этим галстуком он обычно собирался в школу, озабоченный уроками сына. А в этой куртке где я его видел? ага! у них дома, за шахматами! В этой (или в такой же) сорочке он выходил на балкон покурить. Прокручивая видеоленту назад, я неспешно собирал его живого, воссоздавая, насколько возможно, с помощью пиджаков, и брюк, и сорочек, кусок за куском, его жизнь. На какое-то время в комнате, в которой жил, Илья Иванович задвигался, прошел близко, усмехнулся. Сверкнули его глаза.
Теряя темно-золотой цвет копчения и становясь все белее, возвращались из небытия (из коптильни) очищенные полутуши.
Обратным ходом проскочив распил, туша из разделенных кусков воссоединялась. Миг – и единая. Целая. И тут же стремительно ее начинали набивать ловкие человечьи руки – вталкивались легкие, пара почек, желудок, связки кишок, огромная печень, – влетало еще более стремительно на свое место сердце. Все органы размещались удивительнейшим образом точно, плотно, без малейшей подгонки и без ощущения тесноты – все на местах. Теперь, начиненная полностью, туша ныряла в станок и была там довольно быстро одеваема.
Словно бы лежа, юнец натягивал на себя тесные брюки, точнее, комбинезон с рукавами, так или почти так на голую тушу натягивалась ее собственная, прилетевшая откуда-то с верха видеоэкрана шкура. И в строгом соответствии с законом (с обратностью закона) учетное клеймо с туши вмиг испарилось, исчезло, а пар, теплый, живой пар туши, стоявший облаком, втянулся прямо на глазах весь под шкуру.
– Минус две секунды. Верно? – сказал-спросил голос Батяни.
Сейчас проверим. Да, две. Две, но почти три... Появилась коровья голова – ее подбросили снизу, как мяч, лови! – успевшая в конце полета обрасти щеками и губами, успевшая вновь начиниться сгустками мозгов коровья голова, безлико смотря, вдруг замерла: тут в нее разом вклеилась пара глаз. Взлетела следующая голова – еще пара глаз. Происходило тотальное награждение зрением: они прозревали.
А первая голова доползла по ленте конвейера уже до самого края и вдруг снялась и полетела к туше – человек в комбинезоне успел сделать там надрез, показывая, как ей в полете нырнуть и куда пристать. И коровья голова точно выполнила маневр. Срослась.
– Плюс секунда, – голос Батяни.
И голос инженера-техника, который корректировал на своем компьютере:
– Плюс полторы.
У корыт началось обратное вливание крови, тело коровы накачивалось кровью до предела. Нельзя было оставить в корыте ни капли. Последняя струя, втягивая красные брызги и кляксы, вползла в вену, и тут же обратным, но тоже резким движением надрезальщика ткань соединилась: сшилась без шва. И вот на цепях – задним ходом – висящие вниз головой, целехонькие, одна за другой отходили коровы: отраженное стадо уходило в неведомый им пока путь.
Началось их вознесение на второй этаж (это когда под ними подломился пол) – они возносились, взлетали по наклоненным половицам, пока половицы под ними не сомкнулись, пол стал горизонтален. И на строго горизонтальной поверхности все коровы улеглись, да, легли до единой; и только тут началась электропляска их воскрешения. Как вихрь. Скачки, буйство тел, судорожный перепляс воскрешенных, взлетанье на метр-два над полом, вправленье передних и задних сломанных ног, преодоленье раскоряки убиваемого тела, мотанье рогами – и рев, рев!.. а затем тишина.
Тишина.
Медленное шевеленье, и вот расстановка рядами, бок о бок – коровы стояли, почти не задевая друг друга. В какой-то промельк секунды они обрели жизнь, и с жизнью – сразу порядок. На земле живут только так. Жизнь возвращена. И человек в желтом комбинезоне, с одной помочью через плечо, медленно отходит от рубильника. Человек отводит от рукояти рубильника свою руку. Рука еще протянута, словно бы устремлена вверх – человек-вождь приветствует их новую начавшуюся жизнь.
И сразу же уползает в сторону створчатая стенка бокса, и изо всех боксов одновременно ожившие коровы медленно выходят задом, пятясь и пятясь назад, с тем же смирением в круглых глазах, с каким они шли вперед, на убой.
Эта партия буренок где-то успела обрасти рогами. И ушами. Ускользнуло, – думал командированный. Надо выгнать на левый экран дисплея боковой конвейер и проследить. Особенно важны (и плохо контролируемы) потерянные секунды на стыке конвейеров. Итак, омовение...
Омовение, но, разумеется, с обратным эффектом: чем более пузырилась вода, чем более радужны и чисты были мелкие струйки, упирающиеся в бока и ребра, взлетающие поверх рогов и фонтанирующие, тем более возвращался на бока коров их помет с бетонного пола. Возвращалась дорожная пыль и грязь, тем более приставала, прилипала к бокам и к вымени ломкая солома, листки травы. Молодые женщины в косынках оглаживали коров обратным движением рук, словно бы против шерсти, но мягко и по-доброму, по-человечески.
И вот, пятясь задами, сталкиваясь крупами, они стали подыматься бетонными коридорами и выходить на скотопригонный двор. Искаженные, обратно произносимые, зазвучали забытые матерные ругательства. Потом «Тьег! Тье-е-э-г!» («Геть! Геть!» – фонограмма тоже прокручивалась теперь в обратном порядке) – и под стихающие крики и мат ожившие коровы расставлялись там и тут: они с хрустом жевали брошенную им траву, солнечные лучи лежали на их боках, шмель летел, это была сама жизнь, и великая ложь того, что человек может живое создать, как и разрушить, ложь источалась видеоэкраном. Качество изображения было прекрасным, и бегущая строка сообщила о начале отсчета секунд: о сотворении мира.
Человек может считаться оставшимся, только когда он пробовал уйти.
Старый, хотя и редкорастущий, кустарник – большое в степи подспорье. Стена ограждения была уже далеко позади, а командированный все более углублялся в степь. Ночь как ночь.
Он отыскал сухой куст, безлистный, крепкий, вырубил его (прихваченным топориком), затем порубил мелко. Костер занялся. Костер потрескивал. Командированный отошел от его жара и смотрел в темное небо, ища меж застывших огней звезд движущуюся огневую точечку пролетающего вертолета. Красно-желтый шмель, – подумал он, вспомнив оживших на экране коровенок на скотопригонном дворе.
Теперь следовало запастись терпением. Нет смысла вскидывать глаза к небу каждую минуту. Отойдя в сторону и томительно расхаживая взад-вперед, командированный случайно перевел взгляд и за кустарником, левее, увидел огонь, такой же недвижный, как и его собственный. Несомненно, огонь еще одного костра.
Он вздрогнул, ведь костер горел совсем недалеко, быть может, там сотоварищ (но, быть может, какая-то патрульно-охранная служба?). Секунду он размышлял. Разумеется, его костер уже тоже замечен. Так что стоит рискнуть и пойти туда самому... Он пошел. Он сделал по степи крюк и приблизился, сначала осторожно, потом смелее – у костра был один человек; стало быть, не патруль.