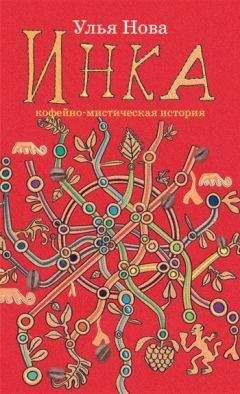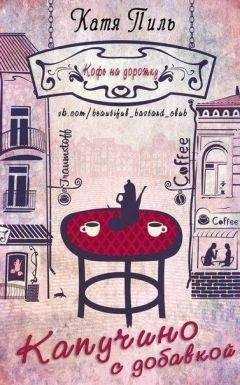Карабкаясь взглядом на пик подъемного крана под серые залежи туч, она увидела скользящую по воздуху не ворону, не голубя, а неизвестную птицу, которая широко раскинула крылья, словно старалась обнять город.
– Это наша достопримечательность, – пояснил женский голос за Инкиной спиной, – говорят, ястреб. Здесь, на месте стройки был когда-то кирпичный дом, в нем жил иностранец, очень странный. Часто ходил вон туда, в сквер, с этим своим ястребом на плече. Потом, говорят, иностранца этого, бразилец он, что ли, сбила машина. А его птица никому не далась, так и сидела возле аварии и с тех пор живет здесь, у какого-то пьяницы.
Инка обернулась, чтобы увидеть, кто же это говорит такое. Похоже, обладательница глубокого грудного голоса была в своем уме. Рядом с Инкой стояла женщина дородная, степенная, один в один – самка-ондатра, такие знают, что говорят, и отмеряют каждое слово как золото, на вес, стремясь лучше недодать, чем слишком расщедриться.
Почуяв след, Инка отбросила дружелюбие, крепко схватила женщину-ондатру за воротник пальто и спросила прямо в лицо, внимательно вглядываясь в черноту горошин-зрачков:
– Когда это случилось и поподробнее.
Женщина-ондатра не скрывала волнения, она запричитала, но, почуяв, что так просто ей не уйти, немного задыхаясь, заголосила:
– Хамка. Хулиганье, отпусти, воротник порвешь. Я жила в доме, но теперь его снесли. Я прожила в этом доме двадцать лет и двадцать лет была старшей по подъезду – так меня уважали, не рви же воротник. Иностранец, его звали Аскар, снимал квартиру на третьем этаже. Он ходил гулять и в магазин со своей опасной, хищной птицей, и мы поставили его в известность, чтобы у птицы появился намордник и поводок. Он не возражал. Очень порядочный иностранец. Потом его сбили. Это было, только не порвите воротник, года три назад. А то и больше. Что тебе еще, пусти, а то милицию позову.
Инку больше упрашивать не пришлось, пальцы ее сами ослабли. Освободившись, женщина-ондатра убежала прочь. Услышанное лишило Инку способности двигаться, зато ускорило пульс. Инка осталась посреди улицы совсем одна, уровень ее самообнаружения катастрофически падал, стремительно приближаясь к нулю. Сомнения были, но такие хлипкие, робкие сомнения, что становилось душно. Ветер, словно приняв город за порт, а дома – за корабли, старался сдуть хоть один и бросить в открытое море, в странствия. Но Инке ветер казался теплым, даже жарким. Сердце ее так стучало, что хватило бы на двоих. Ее лоб горел, волосы разметались, ворот пальто стал удивительно мал, душил, хотелось сорвать пуговицу и высвободиться. И неизвестно, что стало бы с ней, если бы ее не увлекло следующее: кружась, мелькая, что-то плыло с неба. Что-то падало так плавно, так медленно, парило, играло на ветру, опускаясь все ниже и ниже, пока наконец острое, рябое перышко не легло к Инкиным ногам. Не дожидаясь, пока самообнаружение упрется в ноль, Инка схватила послание небес и стремительно бросилась со всех ног прочь от окраин к сердцу мегаполиса.
Инка неслась, рассыпая на бегу слезы. Неизвестно, что они означали, эти капли моря, текущие из ее глаз, то ли отчаяние, то ли тоску по Уаскаро, то ли усталость. Слезинки уже намочили ей подбородок и воротничок, еще немного, и глаза выскользнут, выплывут из глазниц. Услышанное обожгло Инку насквозь, оно шипело и безжалостно хозяйничало внутри, оно овладело Инкой, как ложный бог, который установил на ее выжженном острове свои каменные жернова. И вот Инкино прошлое истиралось в кукурузную муку.
Ноша такой муки – не из легких, тем более когда тащишь ее в тесноту своего вигвама-бедлама. Приближаясь к дому, Инка заметила невдалеке соседку Инквизицию, та рывками, скачками спешила домой, сжимая по сумке в каждой руке. «Эх, кецаль, только ее и не хватало», – Инка прибавила шагу, надеясь опередить, завладеть лифтом и ускользнуть. Однако соседка Инквизиция тоже прибавила шагу, к пущему гневу Инки, она проявляла необычайную прыть, перескакивая с авоськами наперевес через две-три ступени, и наконец решительно, с силой разжала закрывающиеся двери лифта, молчаливо и многозначительно протиснулась внутрь, заполнив весь лифт собой и своими крупными пузатыми авоськами.
Лифт превратился в западню, ускользнуть не было никакой возможности, а ехать в такой тесноте – напряженное и рискованное дело: того и гляди, Инквизиция начнет скандалить, отчитывать и попрекать. Случись подобное пару месяцев назад, Инка бы стояла пропащим истуканом, не зная, куда девать руки-ноги, истлевая от пристальных, цепких взглядов соседки. Теперь Инка не терялась, теряться вблизи Инквизиции было ни к чему, да и неинтересно. Вместо этого у Инки отыскались занятия в узкой камере разогнавшегося лифта. Она нюхала день этой женщины, наблюдала ее мир, гадала, удалось ли соседке намыть что-то в тайник волшебства или туда комом складывается всякое хозяйственное барахло: озлобление, мелкие распри с семейкой сверху, где всегда происходят потопы, портящие Инквизиции потолок. Еще Инка прикидывала, есть ли у этой женщины пальто удачи или хотя бы жалкий будничный пиджачок. Инка внимательно и спокойно изучала Инквизицию. Соседке стало не по себе, она искоса перехватывала Инкины взгляды, боевито сдирая их, как слизняков, отбрасывая на царапанные и жженые стены лифта, возводила глаза к потолку и ждала, когда достигнет нужного этажа, поскорей спрячется за картонными и фанерными стенами дома-крепости, выпустит авоськи из рук на пол, а потом и ругнет Инку как следует.
Инка предчувствовала, как мучительно, как пусто будет дома, лучше уж пусть лифт громыхает и трясется между этажами, лишь бы не оказаться в четырех стенах бедлама-вигвама, где бродить до скончания времен и миров туда-сюда со сгорбленной спиной, распутывая, как пучок гнилых ниток: что произошло с Уаскаро, где он, стоит ли верить всему, что стало известно, и что делать дальше? Раньше Инка обращала мало внимания на существование соседки Инквизиции, как и на прочих соседей, которых она знать не знала, не замечала и не здоровалась. Но теперь-то Инка волокла груз весьма сомнительной муки из своего прошлого, подпорченной непонятной муки, которую можно принять за соль с крупинками Инкиной слепоты, а можно – за тертое стекло с примесью сна и яви, а можно – за мел, где комки легенды о мистере латино хрустят вперемешку с Инкиным легковерием и подозрительностью. Непонятным был этот груз и мучительным, нужно было срочно отвлечься, бежать от этого мучения, поэтому Инка смело встретилась глазами с соседкой Инквизицией и сказала:
– Простите, я забыла купить сахар. У вас не найдется пакетика взаймы?
Инквизиция не скрыла удивления, она тут же выложила все свои упреки, победоносно оглядывая Инку сверху донизу:
– То ходишь мимо, не здороваисся, нос кверху и пошла, то ей сахар подавай. Магазин я тебе или что? Может, еще чего надо? Ладно, пошли, раз забыла купить, у меня на балконе есть пакетик. Мы люди ня гордыя. Но расплатисься сразу, а то я вас знаю.
В коридорчике у соседки Инквизиции темно и жара, как в летнюю засуху. Дверь в комнату приоткрыта, оттуда, из угла над комодом Инкины топтания на пороге наблюдает большая икона из фольги. Войдя в дом, соседка нарисовала в воздухе неровный крест и тихо доложила: «Вот, вернулась с покупками». Молча, оглядывая домашнюю утварь, все ли цело, вслушиваясь в тишь квартиры, Инквизиция кое-как сняла боты, аккуратно поставила их и босиком пошлепала в комнату. Инка тихонько заглянула туда и замерла на пороге прекрасно сохраненной комнатки-музея.
У стены напыщенно, с гордостью бедной провинциалки притаилась железная кровать, устланная кружевным белоснежным покрывалом. У окна, в углу затаилась тумбочка с телевизором, что бережно укрыт вязаной салфеткой. Пыль оседала на два ковра и почерневший комод. Все это стерегла из своего угла икона – хранитель домашнего очага, которую хорошо видно с лестничной клетки, если дверь отворить пошире. Никакая мелочь не выбивалась из стройного хора вещей, ни одной безделушке из товаров последнего времени не удалось просочиться сюда: ни пестрый календарь, ни пластмассовый столик, ни синтетический плед не заполз хитростью под видом подарка или необдуманной покупки. Ничто не нарушало покоя времени, его счастливого погребения в чистенькой гробнице-хранительнице с голубыми, чуть выцветшими обоями. Это была редкая гробница, где бедность создала все условия, чтобы прошлое, укутанное в кружева, счастливо дремало под медленный полет пылинок. И прошлое спокойно посапывало, вдыхая крахмал старых, застиранных штор, под жужжание древнего телевизора «Темп» со сломанной антенной. Комнатка-музей позволяла окунуться в быт, приметы которого, сваленные как попало на корабли, давно унеслись к землям забвения. Инка наслаждалась покоем усталой, замусоленной мебели, которая напряглась в ожидании неизбежного: у Инквизиции нет детей, когда-нибудь жилище перейдет во владение к чужому человеку. Очень вероятно, что новый властелин этих тридцати с хвостиком квадратных метров будет принадлежать к иному этносу и культуре, цель которой – побороть прошлое, забыть, приврать и прифантазировать. Внедрится новый властелин в гробницу, обдерет лентами старенькие обои – они уже сейчас кое-где пузырятся, потом накатает холодные воды эмульсионки на стены, вишневой или бежевой, смотря, какая будет моднее. Довольный, оботрет пот со лба, оглядит владения и начнет пичкать комнатку безделушками: подсвечниками, каменными пепельницами, низкими стеклянными столиками, стойками, фонтанчиками А прошлое, так бережно сохраняемое в квартирке-гробнице, как пугливая дичь, улетит без оглядки в старинные земли забвения. Там на дорожках идолы гипсовых горнистов и крепкие девушки-волейболистки из бронзы. Там были свои вожди и прорицатели, они старались накликать светлое будущее и выискивали его за каждым холмом, что преспокойно заслонял небо. Возможно, светлое будущее шло с ними параллельным курсом, так и не удосужившись пересечься. Со временем жрецы раскусили одну тайну светлого будущего – оно, как линия горизонта, всегда удаляется на почтительное расстояние от искателей и путешественников. От такого открытия не грех повесить головы, не грех и повеситься. О, старинные земли забвения! Там радиоактивные ученые соревнуются в любви к людям. Там избушки-уборные – бесплатно. Там громадные золотые самородки щедро приносят в дар многочисленным НИИ, а целые площади народу приносят в жертву просто так. Там цепи пищевые похожи на тюремные кандалы. Там божки в кепках или с бородами – по три на каждом перекрестье улиц. И ты там был, не отнекивайся. И тебя когда-то заметили там, но не волнуйся, они не скажут, они сами стесняются, что прибыли оттуда, они прикидываются, как будто ведут свое происхождение из далеких земель и древних времен.