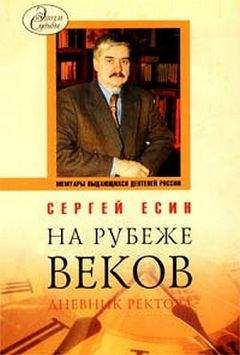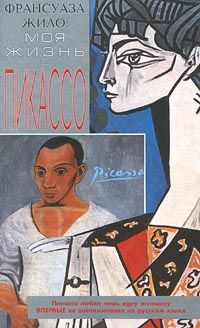Ванечкино лицо в этот момент было букетом разнообразных настроений. Ему не пришлось выбивать эту работу для своего друга. Силой обстоятельств заказ сам скатывается тому в руки. Но Ванечка привык заранее знать, как закончатся развивающиеся события, и направлять их, как гребец тяжело нагруженную лодку.
Сначала у Ванечки просто отвалилась челюсть. Заговор? Групповщина? Бунт во вверенной ему области? Потом он увидел, что не сговор, а товарищеская договоренность. И эта договоренность – еще одно свидетельство его удивительной проницательности. Его редкого дара руководства художественной интеллигенцией. Ванечка подобрал челюсть и внушительно надулся. Ура! Наша берет! Он остается счастливым капитаном! Поднять все паруса!
Ванечка произнес ответную прочувственную речь. Ему никто не подсказывал, референт не готовил ему тезисов. Ванечка воспользовался случаем блеснуть перед интеллигенцией. Он выразил искреннюю радость по поводу ее сплоченности, понимания общих задач, ее бескорыстия, он помянул добрым словом всех, кроме, естественно, отзывчивого и эмоционального человека – главной хранительницы Юлии Борисовны, разговаривающей на шести языках, знающей, у кого из художников старшего поколения случился инфаркт и кто у кого увел молодую жену. Ну, что ж, Ванечка тоже заработал конфетку и маленькую легенду своим экспромтным спичем. Каждому свое. Придется привезти ему из Парижа какой-нибудь легкомысленный сувенир.
Все эти мысли, как весенние ласточки, промелькнули у меня в голове, но я старался не поднимать глаз. Я боялся, что в них блеснет нечаянная радость. Человек еще может скрыть горе, но радость – это свыше его сил. Она прет из всех сил, сочится из глаз. Надо долго тренировать себя на поприще жизни, чтобы научиться ее скрывать. Ведь выгрыз, взял свое! Обломилось! Я сидел, стараясь сохранить хмурое выражение лица, но во мне все ликовало.
О блаженный миг расслабления, где ты? Как бы я хотел сейчас оказаться в своем пустом рабочем кабинете. Хотел бы посмотреть на выражение глаз бывшего хозяина дворца. Ну что же, ваше сиятельство, как видите, жизнь улыбается и вашим бывшим крепостным. Мне ведь тоже этим заказом подписывают грамоту на графское достоинство. В следующем издании энциклопедии будет страничная репродукция моей парижской работы, потом, как-нибудь устрою, чтобы мой портрет написал Стрелков, и дело сделано. Стрелков-то в книгу бессмертия попадет. Когда-нибудь будем вместе висеть в одних музейных залах: вот, господин граф, мой портретик работы Стрелкова и – что там писали Крамской, Кипренский, Серов? – Пушкин, Толстой, Ермолова… Компания мне подойдет. А мой скромный дар и грандиозная кисть Стрелкова – вывезут. Вот так-то!
И вы, госпожа муза, недаром осенили меня своим крылом и преподали тонкие уроки политеса. И на нашей улице раздают пряники! Я даже готов утверждать, что существует закон, по которому вовремя подаренное ведро меда оборачивается стоведерной бочкой. Свежего, пахучего, с горных вершин.
Я никого не забуду из моих посторонних вожатых. Даже императорский стол. Договор в министерстве подписывать не буду. Пусть пришлют в музей. Что там было подписано на синем сукне за бронзовым бордюрчиком? Пора порадовать стол новой легендой. Будут говорить: за этим столом что-то подписал русский император, а также знаменитый художник Семираев договор на фреску «Реалисты». Пора обрастать легендами и самому.
«Искусство совершенно бесполезно»? Какой бездарный афоризм придумал Оскар Уайльд. А художнику оно тоже бесполезно? А музе?
Вперед, художник! Мы еще осадим на полном скаку наше быстротекущее время. Еще попразднуем.
Главное, не выдать сейчас радостный, сумасшедший блеск глаз!
Я знал, что тону.
Это было как во сне, как в детстве. Нырнув так глубоко, насколько хватает воздуха в легких, ты пугаешься у самого дна и, развернувшись в воде, изо всех сил гребешь вверх. Наверху чуть-чуть, пятнышком, светлеет летний день. Грудь заложила непереносимая боль, и тебе кажется, что не догребешь, навсегда останешься среди струящихся водорослей и черных коряг. Страх сковывает мозг, но ты все гребешь, гребешь…
Когда Маша распахнула дверь, и я увидел огромную во всю стену картину, я понял, что тону.
Пятнышко дня светилось где-то в недосягаемой вышине, сердце по-сумасшедшему колотилось, мозг, как загнанная в угол крыса, метался в поисках выхода, я что-то говорил, отвечал, улыбался, но до тех пор, пока Маша, уже выходя из комнаты, тихо, неслышно для окружающих сказала мне: «Это тебе, папа, безвозмездный подарок», – я думал, что уже никогда не выплыву. Все летело к черту, в тартарары. Я получил свое Ватерлоо. Пейзаж после битвы был уныл и жалок.
…Золотая пуля, оказывается, продолжила свой полет. В нашем охотничьем деле одним выстрелом можно убить и не трех зайцев. После заседания в кабинете у Ивана внезапно – да так, что я бы и не придумал, и мечтать об этом бы не мог – решился вопрос и о месте, где я мог бы готовить мой огромный, в размер, эскиз. Конечно, могло бы хватить и моей мастерской, и все же работать там над такого размера произведением было бы затруднительно и не очень удобно. Отвлекали бы и домашние дела, и необходимость ездить на работу, да и занять мастерскую одной работой значило надолго лишить себя возможности доводить до ума кое-какую оставшуюся незавершенку.
Юлия Борисовна, видимо, подумала, что исход совещания у Ивана дело ее рук. А победа, как известно, удесятиряет силы. Удесятиряет шустрость ума. Юлия Борисовна в своем человеколюбии решила, как Александр Македонский, дойти до последних пределов известного мира, поэтому-то ее предложение было для меня неожиданным.
– Юрий Алексеевич, – сказала она, – мы сейчас меняем экспозицию, и три зала, непосредственно примыкающие к вашему кабинету, будут три-четыре месяца свободны. Мы бы могли закрыть паркет фанерой, стены затянуть холстом, и чем вам не мастерская? Это позволило бы сохранить много времени для руководства музеем. В случае острой необходимости вы всегда под рукой. А Ивану Матвеевичу я об этом уже звонила. Он согласен и считает это разумным.
Это было сверхудачно.
Никогда в жизни у меня не было такого счастливого времени, чем два месяца, которые я отдал работе над эскизом для показа комиссии. Все, о чем я мечтал, почти сбылось. Мне помогали смирившиеся Маша и Слава, лучше чувствовала себя Сусанна, крепко продвигался мой главный в жизни увраж. Я сумел ничего не выпустить из рук, все было со мною.
Но почему-то больше всего меня радовало то продолжающееся духовное единение с Сусанной, которое началось с ее болезни. Я вторгался в ту область, которая казалась мне недоступной. В область обычного, семейного, человеческого счастья.
Уже другими глазами я смотрел, как работают и ведут себя друг с другом Маша и Слава. От меня ушла зависть к их отношениям, я мог прочесть каждый их жест и понимал каждое слово, которым они ненароком перебрасывались между собой.
Куда делась строптивость моей дочери? Правда, после смерти Славиной мамаши она не вернулась домой, а осталась жить в их однокомнатной квартире на задворках города, но удивительно легко согласилась помогать мне и уже не ерепенилась, брала довольно большие деньги, которые я им со Славой платил. Не даром же, говорил я, за работу.
– Мы тебе, папа, наработаем, – отвечала Маша, и всегда в эти минуты в ее улыбке проскальзывало что-то от улыбки Марии-старшей.
Работали Слава и Маша прекрасно. Им хватало моего намека, совсем крошечного эскиза, несколько линий, чтобы развить, дополнить идею, художественно ее завершить. Если мне что-то не нравилось, они тут же, без особых споров, переделывали, находили остроту в новом решении. Мне доставляло наслаждение видеть, как они лазили по стремянкам и, как птицы, перекликались из разных углов мастерской. Но их движения, повадки, маршруты в огромном музейном зале, который рабочие под руководством Юлии Борисовны превратили в мастерскую, всегда имели какую-то центростремительную силу. Слава не мог пройти в другой угол мастерской, чтобы не подойти к Маше, а та в свою очередь, работая, все время придвигалась ближе и ближе к мужу.
И все же главное, что меня в них восхищало, – это свобода художественного мышления. Там, где я десять раз примеривался, чтобы провести одну линию, они проводили ее мгновенно. Где я высчитывал, проверяя себя по репродукциям с картин классиков, где я высчитывал блик или рефекс света, они, казалось бы, не задумываясь, почти не глядя на палитру, тыкали кистью, чего-то там мешали и одним ударом ставили на полотне нужную точку. Их дар был о р г а н и ч е н и весел, он был неиссякаем, как молодой ключ. Они выплескивали мир из себя, в то время, как я, прежде чем что-либо сделать, долго вбирал все вовнутрь, копил наблюдения, складывал одно с другим. Боже мой, и как р а н о к ним это пришло! Да, были и неточности, и ошибки, и приблизительность, и небрежность – им не хватало моего фотографического глаза и рук чертежника, – но ведь это всего лишь опыт, тренировка, упражнения. Это придет! А вот то, что есть у них, уже никогда моим не будет.

![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)