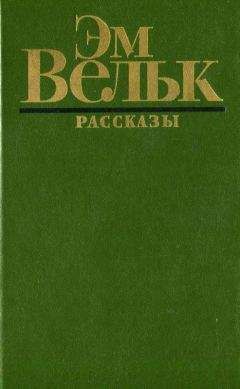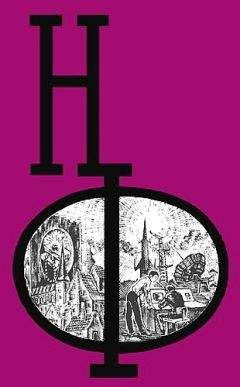— Так смотрите же, приходите, — крикнул он.
Девушка кокетливо взглянула на него своими черными глазами, она была прехорошенькой. Солдат отдал честь и зашагал быстрее. В спине он ощущал какое-то жжение, будто кто-то вонзил ему в спину раскаленное железо и оно дошло ему до груди. Он чувствовал, что эта пара смотрит ему вслед и что разговор идет о нем.
Бесцельно бродил Менцигер по городу, не замечая памятников и архитектурных сооружений, и видел только нарядно одетых, смеющихся женщин. У вокзала он зашел в небольшой ресторан, заказал кружку пива и сел в угол. Выпив пиво, он обратил внимание на то, что стол был накрыт белой льняной скатертью. Он уплатил за пиво, взял из камеры хранения свой ранец и сел на скамейку на перроне. Поезд в Вену отправлялся лишь через два часа.
Вот уже восемь дней он находился дома, однако редко выходил из своей комнаты. Они хотели окружить его вниманием и заботой, но их попытки разбивались об его отчужденность. Однако он уже не спал на полу, как в первые две ночи, и обедал уже вместе со всеми за семейным столом. «Ты очень болен», — услышал он слова своей сестры Хильды, и при этом она серьезно и печально посмотрела на него. Родители охнули, и глаза матери наполнились слезами. Тогда он повернулся и ушел. «Скорее бы прошли эти две недели, — таковы были его мысли утром, днем и вечером. — Скорее прочь отсюда, опять в окопы».
Однажды вечером Хильда вызвала у него сильное раздражение. Она пришла в его комнату, взяла его за руку и сказала:
— Фриц, что с тобой? Скажи мне, мы же всегда понимали друг друга.
Он убрал свою руку и ответил:
— Сестричка-медсестричка, я совершенно здоров. Я хочу только, чтобы меня оставили в покое. Не распространяй сферу своего влияния за пределы лазарета.
Это должно было прозвучать шутливо, а прозвучало бездушно и грубо. Этого он не хотел. Хильда всплакнула.
— Фриц, пойди на люди. Надень штатское платье, пойдем к Вендландам. Ганс вчера приехал в отпуск. Мари и Герман уже не раз спрашивали о тебе.
— А что мне там делать среди вас, таких воспитанных и нарядно одетых? Я не гожусь для выслушивания ваших сетований и разглагольствований о вашем героизме.
Сестра сказала без тени упрека:
— Ты когда-нибудь слышал, чтобы я жаловалась, хотя мой труд часто очень нелегок? А наши родители? У старика отца почти нет людей в магазине, у матери дел более чем достаточно, а мой халат медсестры ты называешь нарядом? — Солдат молчал, а девушка продолжала: — Германа Вендланда демобилизовали — он потерял зрение. Им было очень тяжело. И Мари восемь месяцев только и делала, что ухаживала за своим слепым братом. Теперь Вендланды снова смеются.
— Они смеются? Это хорошо.
— Да, Фриц, они смеются. Герман Вендланд, которому столько же лет, сколько и тебе, снова смеется.
— Он никогда ничего не принимал всерьез.
— Нет, Фриц, Мари однажды застала его в тот момент, когда он хотел броситься вниз, с балкона.
— Будь покойна, этого я не сделаю.
— Почему ты причиняешь мне боль, Фриц?
Он простонал.
— Оставь меня наконец в покое! Господи, да мне ничего не надо, дайте только спокойно почитать книгу.
— Спокойной ночи, Фриц!
— Спокойной ночи!
Он не оглянулся, но чувствовал на себе ее взгляд. Однажды он уже чувствовал на себе проницательный женский взгляд. Где же это было? Ах да, на мосту в Будапеште. Хильда и венгерка. Хильда всегда была жизнерадостной. Сколько же лет она работает медсестрой? Два года. Конечно, для молодой хорошенькой девушки есть более приятные занятия, чем изо дня в день возиться в грязи и крови. Грязь и кровь (он оторвал глаза от книги), нежная, юная девушка, вот уже два года, добровольно… Расстроенный, он захлопнул книгу. В тот же момент он услышал на лестнице ее легкие шаги. Значит, она стояла за дверью и подслушивала. Зачем она это сделала? Он ощутил горечь во рту, встал и подошел к окну.
Тихо шелестели листья на липе и на кустах сирени.
Электрический фонарь за крышей садового домика просвечивал сквозь листву, и свет его рассыпался, подобно блестящим монеткам, по серым тропинкам. Розы опустили свои бутоны, Фридрих Менцигер увидел, что они плохо подвязаны. Кошка перебежала через дорожку и вскарабкалась по шпалере на крышу садового домика. Где-то вдалеке зазвенел трамвай. Пробили часы. Пронзительно стрекотал сверчок. Легкий ветерок доносил запах сена. Это было удивительно, поскольку лугов поблизости не было.
Солдат прижался лбом к оконному переплету. Зеленые деревья, неразрушенные шпили церквей и розы — как давно он не видел всего этого! Если где-либо на голой земле стояло дерево, его срубали. Остроглавые минареты были разбиты снарядами, а о цветах и вовсе нечего говорить… Однако розы действительно плохо подвязаны. Неужели отцу и правда не хватает времени? И садовые дорожки тоже не ухожены. Гравия вообще уже не видно. Фридрих Менцигер снова почувствовал какую-то горечь во рту. Он быстро отошел от окна и сделал три-четыре торопливых глотка из бутылки с коньяком. Когда он захотел закрыть окно, он увидел на дорожке негра, который корчился, извивался и кричал. Это видение длилось только мгновение, а затем солдат различил длинную тень кошки, сидевшей за углом садового домика.
— Надо немедленно уезжать отсюда, — сказал солдат, обращаясь к самому себе. И он внимательно взглянул на себя как бы изнутри, проследил прошлое и настоящее, и ему показалось, что он совершенно отчетливо видит будущее. Он всегда гордился своей способностью к самокритике. Поэтому он кивнул головой и произнес:
— Так тому и быть!
Затем он, как был в одежде и сапогах, одним движением бросился на кровать, широко раскинув руки ладонями кверху. «Вот ты лежишь здесь, как Иисус Христос, когда его распинали на кресте», — подумал он, и ему стало стыдно за свои мысли. И тотчас же он понял, как получилось, что он подумал так. Вчера он прочел роман «Без отечества» Германа Банга. Там в конце повествования вот так же лежал один из героев. Это сравнение он нашел неуместным, однако продолжал лежать и предавался ярости своих мыслей, пришедших из тьмы и, подобно белым червям глубоко в земле, точивших его тело. В конце повествования?.. Он чувствовал, как эти мысли гложут его и подтачивают его сопротивляемость.
И вот между бодрствованием и сном, в ту таинственную минуту, когда человек перешагивает грань между мирами, зная, что он бодрствует, а не спит, но находится тем не менее в совершенно безвольном состоянии, ему явилось видение. У него на носу сидел большой червь с тысячью ножек. Подняв свою черную головку, он смотрел солдату прямо в глаз. У червя было три глаза — черный, красный и над ними еще зеленый. На спине червя, собиравшегося вползти спящему в глаз, было написано «Разум». С отвращением солдат поднял руку, но не смог прогнать гада, потому что другой червяк схватил своего собрата за конец тела и стал пожирать его. На этом, черве было написано «Любовь». И так червь следовал за червем, и они пожирали друг друга. За любовью следовали голод, насилие, право, вера, а затем появился совсем крошечный червячок с надписью «Смысл жизни». Солдату хотелось получше разглядеть его, но червь этот был тонкий, как нитка, и бесконечно длинный. Когда наконец из темноты появился конец червяка, на нем сидел негр, который корчился, скалил зубы и скулил.
Менцигер тихо застонал, уронил голову набок и заснул. Ему приснился страшный сон. В ночи бродил негр. Он пожирал одного червя за другим, пока не оказался перед головой солдата. Одним ударом топора он убил обер-егеря, и хотя Менцигер был теперь мертв, он увидел, как негр бросился на его сестру и повалил ее на землю. «Бей немецких свиней!» — закричал маленький лейтенант, вдруг очутившийся здесь. Резко и пронзительно звучал в ночи наполненный ужасом крик Хильды: «Фриц, Фриц, помоги!»
Фридрих Менцигер проснулся и сел в постели. Был уже день. Около получаса сидел он так в кровати, затем встал, умылся и спустился вниз. Все очень удивились, что он вышел к завтраку Его глаза глубоко ввалились, но лицо было более просветленным, нежели обычно. После завтрака он пошел в сад, подвязал розы и разровнял граблями дорожки. Когда Хильда пришла на обед, она ничего не сказала, но в ее глазах появился счастливый блеск. Великая, самоотверженная любовь чистой женской души сияет ярче, чем весь свет мира, — это впервые ощутил Фридрих Менцигер. За столом они разговаривали мало.
Вечером наваждение сгинуло. Обер-егерь сидел в саду и курил. Мимо как бы невзначай прошла сестра.
— Добрый вечер, Фриц! — сказала она улыбаясь и кивнула ему.
— Добрый вечер, Хильда! — ответил он приветливо и помимо воли добавил: — Ты что, спешишь?
Она остановилась, радостно возбужденная.
— Нет, но я хотела…
— Хильда!
Она была уже рядом с ним.
— Прости, если я был невежлив и груб. Мне кажется, я действительно был болен.