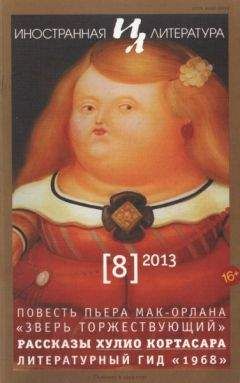— Я твоя сестра… Мы были, но мы отошли… Мы вернулись… Я была, но пришла к тебе… К тебе… К тебе… Вот он, ряд гробовых ступеней… И меж нас никого… Мы вдвоем…
Станислав попытался собраться, понять, что происходит. Разве он был в могиле?.. Это сомнение убило желание. Он запутался: сновидения (Алла, Москва) и чуждый реальный мир вокруг переплелись, спутались, как волосы Риты.
Он вскочил.
— Нет, Рита, ты ошибаешься, нас не хоронили! — вскричал он. — Ты спутала жизнь и смерть!
— Нет, не спутала! Нас хоронили, хоронили! Мы лежали вдвоем, обнявшись, в могиле. Мои волосы закрывали твои глаза, чтобы ты не видел тьму. Любимый, родной, иди ко мне! Вдвоем не страшно!
— Рита, Рита, пойми, мы на луне. Какая могила, какие похороны? На луне этого ничего нет. Ты бредишь землей… — внезапно, словно окунувшись в лунный свет, пробормотал Станислав, и лицо его побелело.
— Ты думаешь, мы на луне? Напрасно! — Рита нежно подошла к окну. — Посмотри. Это город. Там живут люди.
— Но это чужой город.
Станислав подошел к ней и заглянул в лицо. Рита отпрянула.
— Мне страшно, — вдруг сказала она. — Ты не мой брат. Ты — другой… — Она вдруг разрыдалась. — После могилы у меня никого не стало. Где я?
Станислав хотел ее утешить, подошел, но она опять отпрянула и в истерике выбежала.
А на следующий день к этому дому подъехала легковая машина, в квартиру вошли трое и увезли Станислава в неизвестном направлении. Рита осталась одна.
Данила углубился на несколько дней в лес (к тому же лето было теплое). Он любил туда углубляться, но когда после медитативного прорыва он «плясал» около «черной дыры» — то действительно забывал, кто он есть вообще, о человеке даже не было и речи. Какой уж тут «человек»!
Ему такое «забвение» не то чтобы нравилось, но оно было ему необходимо, чтобы быть близким к непостижимому. Хотя все это он уже ощущал после… И на этот раз после такой метафизической бани он вышел из лесу совсем дикий, дремлевый, и медленно потом входил в человечий интеллектуализм. Помогало чтение про себя по памяти стихов Гете и Шекспира. Но долго еще он не мог отрешиться от главного. И мысленно ругал Гете и Шекспира за инфантилизм.
Таким полулесным-полуинтеллектуальным он и встретил на полянке своего дружка — Степана Милого.
Степан поведал ему, что он самолично посетил Парфена, того самого, кто принимал мир за ошибку. И что Парфен охотно принял его, Степана. Потом Степан добавил, что он хочет отдохнуть, уйти в себя и подождать дальше путешествовать по измененным личностям.
— Степанушка! — воскликнул Данила, стряхивая рукой мох с лица, — да ты сам измененный, нешто ты не чуешь это! Посмотри на людей. — И Данила описал рукой круг, словно здесь присутствовали посетители. — Разве ты совсем похож на них?
— Это они не похожи на меня, они измененные на самом деле, а не я. Я — что? Я — обыкновенное существо, летящее в ничто. А вот они изменились, потому как не знают, куда летят.
Данила расхохотался, лесистость окончательно спала с его лица.
— Ты волен как птица. Когда отдохнешь в самом деле, я поведу тебя дальше, если захочешь. Тем более сейчас я чуть-чуть занят. Лене и Алле надо помочь. Мы недавно вернулись из Питера…
Степан задумался, пересел с земли на пенек и потом проговорил:
— Мутнеет во мне Стасик, мутнеет… Что-то он совсем серьезный стал. Теперь и не найдешь его.
Поговорив еще с часок, расстались.
А через два дня Данила, на своей квартире, получил известие, что Загадочный, Ургуев то есть, прибыл в Москву и ждет его по такому-то адресу в четверг в три часа дня, его, Лесомина, лично, и никого другого.
Квартирка, где встретились, оказалась почти такой же бредовой, как и в Питере. Загадочный предложил чай, потом куда-то исчез и, когда сели наконец за стол, запел. Пел он что-то до такой степени нездешне-глубинное, но не совсем на уровне языка, что Данила чуток похолодел, думая, что будет непредвиденное.
Но Ургуев, бросив петь, вдруг перешел на человечность.
— Мне сразу трудно было перейти, Даниил, — сказал он. — Потому я завыл по-своему. Ты уж прости меня. Я ведь хочу быть существом незаметным для Вселенной, мышкой такой духовной, чтоб меня никто не задел, не обидел, не плюнул. У меня, Даниил, со Вселенной особые отношения. Избегаю я ее, поверь, тенью по ней прохожу. Сколько ни рождаюсь, ни появляюсь — как тень бреду, потому и знаю многое. Со стороны виднее.
Данила удивился. Так ладно Ургуев никогда раньше не говорил. Ургуев заметил его взгляд и бормотнул:
— Не изумляйся, я по-всякому могу. Я — всякий, но мышка вообще…
— Метафизическая мышка, значит, — умилился Данила.
— Как ни назови. Я ваш язык не люблю особо. — Ургуев помрачнел и уткнулся в чай.
Данила тогда прямо спросил:
— Как Стасик?
Ургуев поднял мышиную голову. Глаза мелькали, изменяясь выражением. Уши шевелились сами по себе.
— Вот что отвечу. Плохо. Очень плохо.
— Где он?
— Вот этого я до сих пор не знаю. Закрыт он кем-то, закрыт для взоров издалека. Сам удивлен. Это редко так бывает. Накрыли его завесой невидимой. И чрез это покрытие не видать пока… где он.
— Печально.
— Но главное я узнал. — Ургуев как бы спрятался после этих слов.
Данила вздрогнул. Ургуев появился опять — ясный, с улыбкой, не в тени.
Даниле стало все-таки жутковато от такой ясности, хотя и сам он на многое жутковатое был горазд.
Ургуев молчал, только глаза светились изнутри, точно там были вторые глаза.
— Даниил, — медленно начал он, — я буду говорить по-вашему. Ты ведь знаешь, что, по большому счету, все оправдано, есть во Вселенной подтекст, который все ставит на место. Я не говорю о человеческой справедливости и прочей человечьей чепухе. Однако подтекст и тайный закон всего существующего есть. Иначе как же, — развел руками Ургуев. — Тогда и я мышкой вселенской не смог бы быть… То есть как бы случайности нет. Но на самом деле абсолютная случайность есть, именно абсолютная.
Данила побледнел немного.
— Вот, вот… — проговорил Загадочный как-то со стороны. — Крайне редко, один к миллиарду, условно говоря, но она, абсолютная случайность, в отношении, например, существа, человека скажем, бывает… И в чем же она заключается? В том, что вопреки карме, судьбе, тайному закону Вселенных, высшей справедливости, вопреки всему подобному… человек выпадает из всего, что составляет смысл мироздания, выпадает из всего, так сказать, творения и промыслов о нем — но и выпав из всего того, что есть, из всего существующего и несуществующего, из жизни и смерти, он становится непостижимым даже для божественного ума существом, хотя выразить то, чем он становится, не только невозможно на вашем человечьем языке, но и на всех иных языках… Ладно я говорю?
Ургуев прищурился и дико, как в небытии, захохотал. Данила отшатнулся. Продолжая хохотать, но уже безмолвно, Ургуев приблизил свое лицо к глазам Данилы и потом процедил:
— Абсолютная случайность, дорогой Даниил Юрьевич, — это не та обычная случайность, про которую говорят, что она язык Богов. Это истинная случайность, неоправданная, и высшее божество абсолютной, законченной Вселенской Несправедливости, ибо человек попадает в эту тьму именно случайно, а не по заслугам. Хе-хе-хе…
Данила молчал.
Ургуев отскочил от него, сел в кресло и отпил чайку.
— И вы, конечно, понимаете, что ад, адские состояния — детский сад по сравнению с этим. Ведь очевидно, ад, во-первых, не вечен, он только условно вечен, длителен… Потом, извиняюсь, ведь там жизнь, жизнь так и полыхает там! К тому же есть все-таки надежда, туда спускаются. Ад — это законченная часть всего, так сказать, извиняюсь, творения, или манифестации Первоначала, что еще похлеще…
Данила с изумлением глянул на Ургуева: подумать, он еще философствует, мистик эдакий.
Лесомин изо всех сил пытался подбодрить себя юмором, но особо не получалось: абсолютная случайность, бездна вне Всего так и стояла в уме.
Ургуев вдруг вспотел и замолк.
Но вскоре брякнул, лязгая зубами:
— Я устал. Сколько раз говорил, трудно мне с вами. Трудно говорить вашим бредовым языком.
Данила обрел привычную твердость.
— И все же о Стасике мы не кончили.
Но Ургуев, отбежав в угол, страшным образом почти запищал:
— Я духовно, как мышка из рта Единого, про-шмыгал по многим мирам. Со многими тварями сближался изнутри. Но признаюсь, как на ухо Тени своей, что у вас встречаю тварей ни с чем не сравнимых, невиданных. Лаборатория тут у вас, лаборатория для выведения всяких причудливых персон как образцов для других миров…
Ургуев закряхтел.
— Причудливых везде много, со знаниями о Вселенной — немало, но это чушь, все равно это не знания о Боге, и все миры сгниют, сгорят, туда им и дорога…
Его бегающие глазки вдруг расширились, а огромные, глубокие, бездонные уши явственно зашевелились, растопырились еще больше.