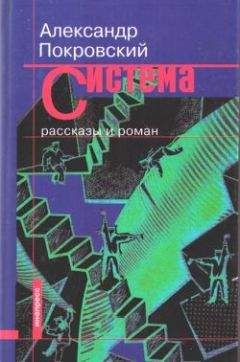Хороший парень. Я его на севере потом встретил. Я уже перевелся в Питер и приехал на север, писать новые инструкции, а они там все подумали, что я – скрытая инспекция, что ли, уж очень меня обхаживали тамошние командиры и начальники.
Флот уже давно привык, что от центральных органов ничего хорошего не жди, могут быть любые провокации, а я встретил там Маратика, и он меня к себе заволок.
Саша Игошин служил в той же базе, и я попал к нему в лапы несколько позже.
– Саня! – сказал мне тогда Маратик. – Помоги! Не могу отсюда перевестись.
У Маратика жена и двое детей.
И я помог. Звонил, надоедал Коля Храмову, что на выпуск младше.
Коля тогда в Москве сидел и мог сделать перевод.
Я звонил ему по поводу Маратика и Саши Игошина.
Саша попал служить на противоположную сторону, в губу Андреева, на хранилище. Там хранились отработанные урановые стержни с реакторов.
И спирта там было море разливанное. Саша мог выпить поллитра просто так, чем меня поразил.
Он мне рассказывал, что кадровики в Москве за перевод отсюда с него потребовали сорок литров спирта и пять тысяч рублей – тогда у нас зарплата была только пятьсот полновесных.
Суки!
У Саши Игошина, когда он мне все это рассказывал, были горловые спазмы, голос дрожал.
Так что по нему и по Маратику я Коле Храмову жить не давал. Он потом позвонил и сказал: «Все! Сделал! Маратик поехал в «Желтые воды», а Игошин – в Калининград!»
В «Желые» так в «Желтые», спасибо тебе, Коля, выручил ребят.
А пока мы ссоримся и мечтаем друг дружку хорошенько вздуть.
– Ну? Что смотришь?
– Ничего!
Это мы между собой разговариваем.
Со временем многое меняется, и ты через много лет бросаешься к человеку, с которым вы столько не виделись: «Здравствуй!» – «Здравствуй!» – говорит он тебе и отворачивается.
А бывает, и наоборот – никак друг от друга не отстанете, все вспоминаете, вспоминаете.
Меня в Питер перевел Гешка Родин.
Гешка у нас ученый и потому раньше всех с флота оказался в институте, а я приехал в Питер просто так. Приехал отдавать одно свое изобретение насчет того, как под водой ходить, чтоб углекислого газа совсем в лодке не было.
– Саня, а хочешь к нам? – спросил меня Гена.
– Куда это «к вам»?
– К нам, в институт.
И тут я поведал Генке, что он, наверное, что-то не помнит, что я – сирота причем, флотская. И меня никто нигде не ждет, и переводиться к ним я буду лет двести.
Перевелся я к ним через пять лет после того разговора, в его отделе оказались дивные люди, такие как Пероцкий, Александров, Новиков, Шляхтин, которые звонили, звонили и вот перевели, и как только я перевелся, то сразу же стал надоедать Коле Храмому.
– Да переведу я их! Переведу! – говорил он мне насчет Маратика и Саши Игошина.
И перевел ведь, самое смешное.
– Караул!.. Равняйсь!.. Смирно!..
Это мы в караул заступаем. Все. Почти весь класс.
Отличники и троечники, будущие ученые и дуралеи.
К дуралеям я, прежде всего, относил себя.
Из-за глупостей, конечно.
Ну, разве не глупость всюду вылезать вперед?
Например, я как-то встал на пути автобуса, когда он собирался на полной скорости проехать мимо нашей толпы, вывалившей в увольнение. Просто не хотел автобус до верху набиваться курсантами. Я встал, он – по тормозам. В общем, мы уехали.
Или вот еще: мы со Степочкиным наперегонки в противогазе целый час лопатами перекидывали песок из кучи в кучу.
Проверялся новый изолирующий противогаз. Вызвались добровольцы, и этими добровольцами оказались, конечно же, я и Степочкин – остальные были, вроде, более нормальными.
Мы не просто целый час страдали от жуткой жары, мы страдали с резиной на роже, когда пот в глаза и в ноздри, а в глотку горячий кислород.
У него металлический привкус и он, сволочь, сушит гортань.
– Пост номер один! Под охраной состоит знамя части!
Это я на первый пост заступаю. Перед заступлением мы сдаем друг другу пост.
Потом доклад разводящему о том, что пост принят, и на два часа ты остаешься один с ночными шорохами в коридорах и со знаменем.
Мы заступали в караул на втором курсе.
А потом мы заступали в него на третьем курсе, и на четвертом курсе, но тогда я уже был или начальником караула, или разводящим.
Спали в карауле, не раздеваясь, на жестких топчанах, которые почему-то назывались «полумягкими».
Засыпали под всякие истории о нападениях на пост да о том, как кто-то из своих же расстрелял когда-то половину караула.
За два часа невозможно выспаться. Особенно, если тебе восемнадцать лет.
Это в двадцать пять можно за два часа выспаться, и то если скажешь себе: «Через два часа ты уже проснешься и встанешь абсолютно свежим».
А когда ночью ведешь смену на водохранилище, то идти надо через маслиновую рощу, по тропе, и рука сама снимает автомат с предохранителя, и каждая ветка по лицу кажется пролетающей летучей мышью, а каждый шорох отдается холодом в груди.
Я до сих пор могу составить план отражения нападения на пост, и до сих пор, когда иду по улице, смотрю на крыши домов и думаю: «Если здесь разместить пулемет, можно будет простреливать целый квартал».
А еще мы учились быстро сдергивать автомат с плеча, подбрасывать его в воздух и налету передергивать затвор и – дальше только очередь, не задумываясь.
– Стой! Кто идет!
– Разводящий со сменой!
– Разводящий ко мне, остальные на месте!
Подходить к посту имеет право только разводящий. Если что-то не понравилось, можно всех положить в грязь.
Подготовка к заступлению в суточный наряд начиналась в 15 часов. Один час можно было поспать в койке, потом глажка формы одежды (идиотское словосочетание), изучение статей устава, построение суточного наряда в роте и осмотр старшиной роты, потом построение на факультете, у рубки дежурного по факультету, и осмотр заступающего наряда заступающим дежурным, где он может остановиться напротив тебя и сказать: «Доложите свои обязанности!» – потом все следуют на плац, где тоже строятся для училищного развода.
Развод принимает дежурный по училищу, для чего: «Первая шеренга! Два шага вперед, вторая, шаг вперед. Шаго-ом. Марш!.. Кру-гом!..» – потом дежурный по училищу проходит мимо и знакомится с нарядом. При этом он смотрит в окаменевшие лица, пытаясь запомнить тех, с кем заступает на сутки. Иногда он может проверить, как ты знаешь свои обязанности – это улучшает дисциплину – потом он проверяет караул (на разводе стоит и заступающий караул из курсантов, у кадровой роты другой караул), потом: «Первая и вторая шеренга!.. Кру-гом!.. На свои места. Шаго-ом!.. Марш!.. (Раз! Два!)»
И обе шеренги встают на свои места. По команде они поворачиваются. Потом команда «смирно» и: «Начальник караула ко мне!» – начальник караула подходит и представляется дежурному. Тут ему показывается секретное слово «пароль» и секретное слово «отзыв», после чего: «Начальник караула, встать в строй!» – потом строй по еще одной команде поворачивает и под барабан проходит мимо дежурного по училищу и его помощника торжественным маршем, во время которого они отдают строю честь.
В промежутках мы читали. В основном Джека Лондона. Его полное собрание сочинений имелось в училищной библиотеке.
Я прочитал все. Потом до меня дошло, что Джерри-островитянин – это облысевший от жары Белый Клык, перенесенный воображением автора в южные широты, но это потом, а поначалу мне все очень нравилось.
Особенно «Морской волк».
Хотел бы я посмотреть на того, кому в те времена не нравился «Морской волк».
А там, на севере, весь в метели и с мороза, я приходил в маленький книжный магазин, размещенный под лестницей в Дофе, и спрашивал у тетки, напоминающей сложением сидячий холодильник «Орск», есть ли что-либо почитать, на что она неизменно отвечала: «В большом выборе политическая литература».
Именно тогда я и приобрел девять томов Виссариона Григорьевича Белинского и прочитал их все. Они ходили со мной в автономки, и я их подсовывал друзьям, опухающим от информационного голода.
Потом я купил четырехтомник писем прогрессивного деятеля французской революции Гракха Бабефа, который писал их из тюрьмы на волю вплоть до самой гильотины, которую ему устроила все та же революция.
Замечательные, надо сказать, письма.
Потом я прочитал письма Пушкина, Достоевского, Чехова, Толстова.
Собрания сочинений этих потрясающих писателей распределял политотдел, а письма никому не были нужны и потому поступали в свободную продажу – где я их и находил.
А позже мне случилось прочитать всего Достоевского, уже без писем, и я отметил недоделанность многих его произведений, суетливость и неаккуратность, после чего наступила очередь Чехова, Пушкина, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина и Гоголя – у этих я отметил доделанность.
Я прочитал Грина, Паустовского, Пришвина, Байрона, Маяковского.
Бальзака, Виктора Гюго, Золя, Шолохова и Виталия Бианки.