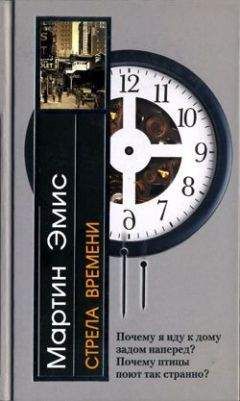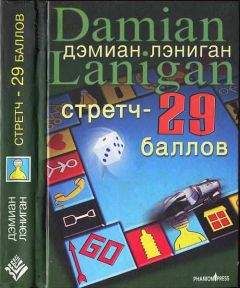Я служил Кат-Цет энергично, не пренебрегая семейным долгом и с чувством. Это что-то новое в моей жизни – чувства. Отъезд из Аушвица вспоминается мне как мука. Мне казалось, что я уже никогда не оправлюсь от мучений, которые пережил в последние дни и особенно в последние часы. Но когда я выехал в Берлин, все прошло, как приступ болотной лихорадки, и вытеснилось новыми эмоциями, множеством новых впечатлений, не лишенных в своей основе элементов боли.
Вероятно, эта боль – от молодости. Сейчас 1942 год. Мне двадцать пять лет… Поезд на Берлин, кстати, оказался весьма скорым. Аушвиц-Центральный – это вам не какой-нибудь полустанок. Это была самая крупная из железнодорожных станций, какие мне только приходилось видеть, и она обслуживала непосредственно всю Европу. Одна из последних наших партий направлялась прямо в Париж: спецэшелон 767, в Бурже-Дранси. Аушвиц оставался тайной. Он занимал четырнадцать тысяч акров – и был невидим. Он был – и его не было. Он был где-то не здесь. Как же так дальше?
Герта совершенно переменилась. Да, моя жена стала неузнаваемой практически во всех отношениях. Она все-таки беременна – явно, потрясающе – и балует меня донельзя. Не совсем понимаю, чем я заслужил такую поблажку. Наш немецкий ребенок просто поразительных размеров, пожалуй, больше самой матери. Герта – всего лишь бечевка, которой перевязана посылка со спящим младенцем. Пока что мы живем у ее родителей в маленьком, но удобном домике на южной окраине Берлина. Почти все наше время занимают болезненные измышления о том, как назвать малыша или малышку. Сперва мы склонялись к Еве или Дитеру, потом решили иначе: Бригитта или Эдуард. Старательно и любовно Герта распускает одежду для малыша. И я тоже – каждый день мы сидим час-другой с тестем в садовом домике, разбираем колыбельку и стульчик. Наша комната, Гертина комната, кажется, в свою очередь готовится впасть в детство. Феи с обоев, улыбаясь, глядят на супружеское ложе – односпальную узкую коечку. Его молочный аромат окутывает Герту, ее потрясающие новые груди, яйцевидный живот. Младенец разделяет нас. Гораздо удобнее, когда Герта ложится на бок, а я занимаю позицию сзади. Только у меня все равно не встает, хоть ты тресни. Наверняка дело в нервном истощении; а может, и в пробуждаемом таким положением тел чувстве вины за ту благодарность, которую мне выражали в лагере. Хотя у Герты волосы есть: полно волос. Во всяком случае, она обсуждала проблему с врачом (вот гадство!), и он сказал, что это вполне обычная мужская реакция на женскую беременность. Да, может, из-за этого, а может, из-за работы, которой я занимался.
И продолжаю заниматься. Знаете, как это бывает. Говоришь: все, хватит с меня этих суетливых надоед и благочестивых постных рож! А потом опять берешь и делаешь все, что можешь. После двухнедельного отпуска я отправился в пятимесячную командировку на Восток с отрядом СС, который работал в тылу отступавшей из Советского Союза армии. Хочется думать, нам многое удалось, хотя по сравнению с KZ это была просто чепуха. К тому же грубая работа. Да и с точки зрения эстетики, конечно, просто кошмар. Теперь я весь в эмоциях. Мир остается осмысленным, но эмоциям ведь не важен смысл, им подавай чувства… На моем лице тогда отражалась одна сплошная фрустрация. Как, например, когда я лежал во тьме, зажатый между переменившейся Гертой и холодной стеной – с полным осознанием сексуальной неудачи. Потом это происходит – то есть не происходит, – и ты включаешь свет и грустно одеваешься. Печаль твоя очень личная и очень тебе к лицу. Случайные взгляды Герты, взгляды ее матери и даже взгляд ее отца, суровый и уравновешенный, сочувственный (хоть мне это и не нужно): взгляды эти говорят, что я наделен ужасной и убогой силой. Я всемогущ. Но импотент. Я могуч и бессилен.
То было лето гроз, солнца и двойных радуг. Лето прозрений. Я встретил наконец младенца-бомбу, осуществив таким образом ироническое пророчество своих снов. И собственными глазами видел стоящие часы в Треблинке…
То, чем занимался отряд, можно было, пожалуй, считать естественным продолжением моей работы в лагере. Мы осуществляли связь между бюрократией и общественностью. В то время евреев рассредоточивали, внедряли обратно в общество, и нам предписывалось помочь расселить и демонтировать гетто, где постоянно отключался свет, а дети выглядели старыми и умудренными знанием, и двигались все либо слишком медленно, либо слишком быстро. Казалось, гетто, даже как временная мера, были ошибкой, и зарождалось мимолетное, но болезненное подозрение в том, что вся эта затея, вся мечта оказалась излишне, фатально грандиозной: много их, слишком много. Как хотелось опрокинуть эти стены… В одном гетто, в Литцманштадте, имелся свой «король» – Хаим Румковский. Я собственными глазами видел, как он проезжал по замершим улицам с придворными, похожий на бумажный мешок с водой и костями, и белая лошадка толкала его экипаж. Румковский был повелителем. Но чем он повелевал?
Что ж, мы энергично взялись за дело, стали развозить людей по деревням и тому подобное. Обозники. Но в этой работе имелось и творческое начало. У нас были фургоны, такие машины с красным крестом на борту, а еще пулеметы и динамит. Оказалось, я просто талант по части нейропсихиатрии. Сотрудники, которых я консультировал (и которым прописывал успокоительное), жаловались на кошмары, тревожное состояние, диспепсию – но к концу командировки все они выздоровели. Методы наши, увы, отнюдь не всегда отличались изяществом; в тех случаях, когда применялся динамит, требовалось несколько часов утомительнейших приготовлений.
Однажды утром – косой дождь со снегом, замерзшие лужи – мы выгружали несколько еврейских семей в убогой деревушке у реки Буг. Порядок был обычный: мы извлекли эту партию из массового захоронения в лесу и, стоя у фургона на проселочной дороге, дожидались, пока сработает окись углерода. Все мои сотрудники были одеты врачами, в белые халаты, они стояли с болтавшимися на шеях стетоскопами и покуривали, ожидая знакомой волны криков и ударов из фургона. Я и сам примирительно попыхивал папиросой…
Затем мы подвезли их поближе к городу, где один из наших уже готовил ворох одежды. Они выходили один за другим. Среди них были мать с ребенком, пока, естественно, обнаженные. Ребенок кричал требовательно и громко, и подолгу: вероятно, боль в ушах. Мать совершенно извелась от этих воплей. Она выглядела и вправду оглушенной – лицо совсем помертвело. Подумалось даже: может, она не вполне отошла от угарного газа. Я был заинтригован.
Потом мы повели эту группу – душ около тридцати-в низенький барак, заваленный примитивными швейными машинками, иголками, кусками одежды. Обычно в таких случаях приходилось растаскивать пациентов по сараям и погребам. Но эти евреи во главе с плачущим младенцем торжественно миновали анфиладу свисавших с потолка занавесок и одеял и один за другим стали задом пролезать в дыру в стене. Эту дыру я потом сам прикрыл широкой доской, тихо сказав им при этом «Guten Tag».[17] Что сказать? Меня растрогало их долгое молчание, плач ребенка. «Raus! Raus!»[18] – крикнул я сотрудникам, которые возились вокруг, осматривая помещение, раскладывали всякие безделушки, кое-какую еду, хлеб, помидоры, оставляли что-нибудь евреям, как обычно. «Raus! Raus! Raus!» Оставшись один в опустевшем бараке, я притаился у стены и прислушался. К чему? К плачу ребенка и к тому звуку, который издает, наверное, весь мир, когда пытается кого-то успокоить: «Ш-ш… Ш-ш». Тише. Я вышел на цыпочках и присоединился к своим коллегам. Тише. Лучше оставить их там. Может, они так успокаивают своих детей. Забираются по тридцать человек в черную нору и говорят: «Ш-ш». Ребенка, понятно, здесь очень любят. Но власти, разумеется, у него никакой нет.
Вот наконец и Треблинка, мы заехали сюда просто по дороге с визитом вежливости, когда возвращались через северную Польшу домой в Рейх. Дело сделано, и там тоже все уже было полуразобрано. Как и в Аушвице, место не было отмечено никаким памятником. Но я не совсем опоздал. Я успел увидеть знаменитый «вокзал» – бутафорский, один фасад. Сбоку он выглядел как устремленный в зимнее небо лубок. Затея состояла, конечно, в том, чтобы успокоить евреев – из Варшавской, Радомской, Белостокской областей, которые обслуживал лагерь. Висели всевозможные таблички: «Ресторан», «Билетные кассы», «Телефон», указатели, куда идти, и часы. На каждом вокзале, в каждом путешествии нужны часы. Когда мы приехали туда, чтобы осмотреть гравийный карьер, большая стрелка была на двенадцати, а маленькая на четырех. Но это неверно! Сбой, ошибка: точное время 13.27. Но потом мы возвращались обратно, а стрелки не стали показывать более ранний час. Да и как бы они могли сдвинуться? Они были нарисованы и другого времени не показывали никогда. Под часами находилась огромная стрела-указатель, надпись гласила: «Пересадка на поезда восточного направления». Но время там направления не имело.