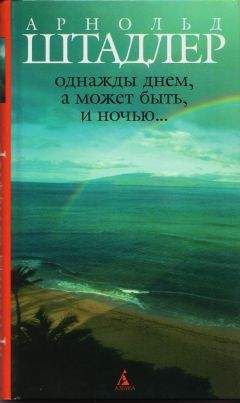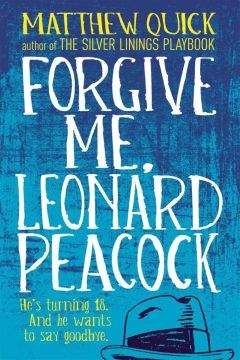Увидев Франца, она тотчас же его простила. Он стоял перед ней, опустившийся бродяга, оборванец: от него все испуганно шарахались, как птицы от пугала. За несколько часов он превратился в нищего в лохмотьях. Едва он взглянул на Розу, как она, забыв о гордости, самолюбии, упреках, бросилась к нему.
Маринелли проскользнул мимо охранников, опасливо покосился по сторонам, сел без приглашения, сделав вид, будто он тоже постоялец отеля — ее спутник, и взмолился: «Если ты не дашь мне пятьдесят долларов, меня арестуют! Ты не знаешь, что значит оказаться в кубинской тюрьме!» В Вене он ей все вернет. Значит, у Розы есть надежда увидеть его дома. Она прошла к банкомату и получила для него пятьсот долларов. «Тебе этого хватит? Отдашь в Вене». Франц всего один раз обнял ее, поцеловал, и с этим они расстались.
Он вышел, сел в такси, заплатил шоферу и теперь в одиночестве брел по набережной Малекон, уже довольно твердо держась на ногах, словно упустил достойный шанс умереть.
Все пропали друг за другом. Сначала свиньи. Потом делегация, умчавшаяся на запад. Потом Рамона и Ренье. У него оставалась только Роза. Ее-то уж он не потеряет. Каким — то образом он, вероятно, все-таки добрался до отеля «Довиль», потому что на следующее утро в одежде, помятой и испачканной, проснулся у себя в номере.
Он встал и, не умываясь, решил пойти на море.
Была только половина седьмого, но он брел по направлению к Малекону и, казалось, взглядом искал в волнах потерпевших кораблекрушение, а на песке — выброшенные морем обломки судна. В открытом кафе напротив уже завтракали первые посетители, европейцы, которые и понятия не имели, что за коварная штука время. Но Франц знал, как трудно бороться с его натиском, и потому двинулся в направлении горизонта.
Раньше его терзала просто тоска. Теперь — тоска по родине. До сих пор это была просто тоска. Сейчас тоска по родине.
Дни начинались с чудного утра, а в Варадеро[96] лежали на пляже прекраснейшие недоступные создания, — пространство вторгалось во время, время в пространство, он уже переставал их различать, теряющий очертания мир беспощадно подчинял его себе и вращался вокруг него.
Маринелли потихоньку пожирала его любовь. Ногти теперь росли с безумной быстротой, волосы тоже, все росло с безумной быстротой, ему даже чудилось, будто дети росли с безумной быстротой и уже перерастают его, как великаны. После него все заполонят другие. А потом выросшие дети, волосы и ногти тоже пропадут неведомо куда.
Он смотрел на самолеты, которые летели домой. Небо над ним было как это голубое море.
Он смотрел на море, раскинувшееся за набережной Малекон.
Проститутке неподалеку от него, которая вообще-то предпочитала мужчин и которую сняли две лесбиянки из Испании, вскоре пришлось раздеться и показать товар лицом — такую судьбу разделяли с ней большинство шлюх обоего пола в этом мире. Ей отчаянно хотелось прикончить своих мучительниц, совсем как Францу недавно Ренье и Рамону, но кровь на свете проливалась так часто, что об этом и в газетах писать перестали.
Франц медленно бродил по набережной Малекон туда-сюда. Только она вела из Гаваны в море.
Он уселся на бетонный парапет и сидел, болтая ногами. Он так долго пил, что уже протрезвел. Малекон! Бетон! Дыры, негативы видимого, негативы материи, крошечные черные дыры.
Он исходил взглядом всю набережную. Нет, скорее избродил, едва переводя взгляд.
«Гавана, 26.02. 11 часов утра, набережная Малекон, — записал он в дневнике, и дальше: — Трагедия фотографа заключается в том, что ему не запечатлеть себя на снимке». А несчастья его происходили оттого, что он не мог уйти от самого себя.
Когда-то он пробовал писать, но забросил свои опыты: писателя из него не получилось. Его способностей достало только на фотографии, которые его не запечатлели. Он стал фотографом по ошибке, наивно полагая, что сможет сфотографировать свой мир. Но в его памяти люди и события остались совсем не такими, как на фотографиях.
Маринелли в Гаване, в перспективе струпья, короста и гной. Сначала все было розовым, веселым и многообещающим, потом стало безмолвно клониться к закату и гибели. А потом сгустились сумерки.
Но, может быть, дома, за завтраком, за первыми булочками с медом, читая в газете последние новости, он снова вернется в свой мир, каким он был, есть и будет, с его бойнями, его жестокими оргиями, его вечным кровопролитием.
Всегда мог найтись кто-то, кто как ни в чем не бывало, без всякого смущения читает вслух последние новости, хотя в одном предложении могли встретиться сталелитейное акционерное общество и смерть. Друг за другом следовали годовой отчет организации «Помощь голодающим на земном шаре», контроль качества потребительских товаров, автомобильный салон в Женеве, Штеффи Граф и выигрыши в лотерею. И что же, это последние новости со всего мира?
А он от смущения всегда выбирал неподходящую тему и невольно создавал неловкую ситуацию. Например, вечно говорил о бедных в присутствии богачей, ездивших в Асти на открытие трюфельного сезона, и о смерти в присутствии живых, подписавшихся на журнал «Фитнес шутя».
Словно слабое, больное, бессловесное существо, которому не дано облечь в слова свои страдания, он смотрел на море, где ему все никак не встречалась смерть.
Ах, Рамона, — а потом сгустились сумерки.
Раньше он пугал и в конце концов заставлял заткнуться своих знакомых, заявляя, что ведет дневник. Кому же захочется очутиться на страницах дневника? А себя самого он заставлял заткнуться, бросая вести дневник. Дневник он задумал как признания человека, утром размышляющего, куда ему податься днем, как признания человека, живущего даже не одним днем, а мимолетными впечатлениями. Даже на пляже. Даже вообразив себя муравьем, в это мгновение посягающим на его полотенце. Каких трудов стоило приморскому муравью взобраться по его шезлонгу и всползти вверх по полотенцу, но тут правая рука, не знающая, что делает левая, стряхивает его вниз. Ему еще повезло, он упал на песок и остался в живых.
А здесь даже муравьи не выживали. Жизнь на набережной Малекон была весьма суровой, и муравьи там почти не водились. Франц понял, что зажат между собственным прошлым и Америкой и ему отсюда не выбраться. «Вот тебе и конец пришел. Это конец, — думал он. — Вот мне и конец».
Он говорил о себе то во втором, то в первом лице. Иногда даже называл себя «мы».
Маринелли с трудом держался на ногах и, сам того не заметив, потерял ботинок. Ему казалось, будто он идет одной ногой по воде, а другой по песку. Он принимал валявшуюся бутылку за свой ботинок и думал, что нужно собраться с силами и его надеть.
«Сегодня я поеду в Шрунс», — сказал он себе под нос.
«Сегодня ты поедешь в Шрцбнс», — сказал он себе под нос.
«Сегодня мы поедем в Сцюксрмкс», — сказал он себе под нос, просто чтобы не молчать, сказать хоть что-нибудь.
Он один знал, как это произносить.
Потом он стал перечислять, да еще по порядку, всех мужчин — признанных обладателей самых больших членов, чтобы не сойти с ума, подобно тому как делал гимнастические упражнения в своей пизанской клетке, чтобы не сойти с ума, Эзра Паунд[97], а сейчас, в это мгновение, в камере смертников, и другие заключенные.
Он перечислял мужчин — признанных обладателей самых больших членов, как дети во время приступа икоты семерых лысых: семь монстров с большим членом, начиная с незабвенного Ханса Альберса[98], за ним следовали Че Гевара и принц Евгений[99], а из ныне живущих Рингсгвандль[100], Майкл Джексон и еще двое, имена которых здесь лучше не называть. Он боялся потерять рассудок. В последние недели этого он боялся больше всего, и потому, словно перебирая четки на молитве, повторял имена, в том числе и те, которые произносил мысленно, не вслух. Он попытался вспомнить таблицу умножения до десяти и другие упражнения из легкого, как пух, детства.
Так, одинокий, всеми покинутый, бессвязно говоря сам с собой, он погружался в неприметно, но неумолимо накаляющееся безумие.
Он снова брел по набережной Малекон, то и дело присаживался выпить, откупоривал бутылку и при этом рассматривал собственный живот.
Какое счастье — незачем больше его втягивать! Занимаясь любовью с Рамоной днем, он все время думал о том, что нужно втягивать живот. А ведь живот был еще хоть куда.
Теперь он уже втайне мечтал о зеркалах, которые показали бы его моложе и лучше, чем он был в действительности.
И совершенно напрасно, ведь даже те из его знакомых, кто безошибочно умел определять возраст, иногда спрашивали, сколько ему лет на прошлогодней фотографии.
Тогда он говорил: «Да не помню, давно это было», — и вынужден был примириться с тем, что фотографии лгут и что на самом деле он никогда не был так красив, как на фотографиях, и никогда не будет таким красивым, никогда, до самого конца. Даже на фотографии в гробу я буду красивее, чем был в жизни.