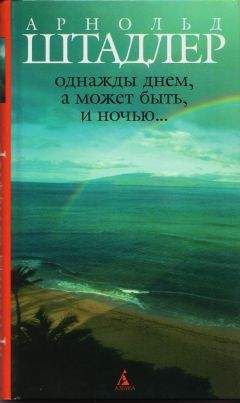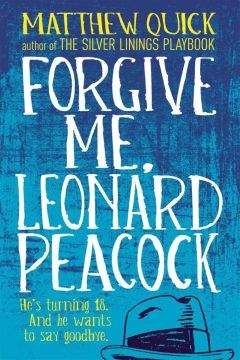Тогда он говорил: «Да не помню, давно это было», — и вынужден был примириться с тем, что фотографии лгут и что на самом деле он никогда не был так красив, как на фотографиях, и никогда не будет таким красивым, никогда, до самого конца. Даже на фотографии в гробу я буду красивее, чем был в жизни.
Он объяснял это тем, что не может фотографировать себя сам.
Он пил так долго, что почти успел протрезветь. Ему вдруг захотелось выкурить сигару. «Гаванская сигара» — разве это не синоним рая, по крайней мере судя по картинке на ящике сигар «Ромео и Джульетта»? Он снова поплелся в город. «Беспокойно томится сердце наше, пока не успокоится в Тебе», — писал Блаженный Августин, отринув земную жизнь, которой некогда наслаждался, в которую, должно быть, мучительно жаждал вернуться и которую поэтому столь яростно и красноречиво проклинал, чтобы не умереть от тоски по утраченному времени.
Он вошел в любимый подъезд, словно все как прежде, словно его опять ждет Рамона.
С трудом взобрался на седьмой этаж. По пути, шаркая мимо тех местечек, где Рамона говорила ему «бэби», он уже готов был повернуть назад и отказаться от своей затеи. Лифт так и не отремонтировали. Но Рафаэль, художник и парикмахер, был на месте. У него Франц подстригся и купил натюрморт в стиле Кокошки[101], а потом заказал по телефону два ящика «Ромео и Джульетты», которые вскоре доставил посыльный.
Он понюхал все двадцать пять сигар и помял каждую, чтобы убедиться, не подделка ли. Они оказались подлинные.
Франц сидел на парикмахерской табуреточке и курил «гавану», пока вокруг него падали на пол волосы, а Рамона в его видениях становилась все прекраснее. Всматриваясь в даль, он курил сигару за сигарой, словно смерть от табачного дыма — пустяшное дело.
Попутно он слушал, что рассказывает ему Рафаэль о преимуществах социалистической системы, называя цифры и сравнивая Кубу с США, где, за исключением Нью-Йорка, царит почти поголовная неграмотность. «Да и кубинский балет знаменит во всем мире».
Потом последние метры, мимо двери в ее квартиру, на крышу-террасу.
Вид, который еще раз открылся оттуда, был настолько знаком, что у Маринелли перехватило дыхание и захотелось броситься вниз.
Затем он еще раз сходил в Центральный парк и посидел на террасе отеля «Инглатерра».
Мимо прошла одетая как девочка увядшая красотка с букетом цветов. Она покосилась на него и улыбнулась, а Маринелли все гадал, уж не ему ли она улыбнулась.
Может быть, это он на нее покосился.
Теперь он не старался запомнить даже самые прекрасные лица, ведь лица все равно останутся с ним до самого конца. Даже в нем самом. И он закрыл глаза.
Пора было позвонить из Центрального парка, из уголка, что выходил на отель «Плаза» и Художественный музей, за скамейкой, на которой он столько ночей просидел с Рамоной. Из телефонной будки прямо за «их» скамейкой он в последний раз позвонил в Вену. Набрал номер мобильного телефона. Автоответчик передал на Кубу начало «Маленькой ночной серенады». Восемь долларов за минуту, столько же стоит входной билет в Венской филармонии. Это был последний фрагмент венской классики, который он слышал в своей жизни. Но никто не ответил, его попросили оставить сообщение. Вот уже несколько недель он не звонил в Вену. Франц пообещал скоро приехать. Он добавил: «Все хорошо». Если бы Франц был пилотом и сейчас вел самолет, то эти слова оказались бы последней записью в «черном ящике».
В порыве внезапного вдохновения он встал, машинально подошел к одному из желтых такси на стоянке у отеля, сказал: «На пляж Патриса Лумумбы», — и вскоре они уже ехали по улочке, узенькой и кривой, точно такой, на которой за поворотом скрывается его венский дом. И Малекон тоже как будто убегал, тоже тосковал, но точно не знал по чему.
Он любил улочки, узенькие и кривые, словно за любым их поворотом скрывается его родной дом. Только вот как добраться с моря до дома?
Франц много лет прожил так, словно его жизнь — единственный аргумент, который он рано или поздно предъявит смерти.
Но жизнь оказалась маленькой желтой лодочкой, которая однажды днем, а может быть, и ночью появилась на экране, бесследно исчезла с экрана и затонула, просто так, тихо, без свидетелей.
Наконец он собрался, словно в последнее путешествие, на пляж имени Патриса Лумумбы, захватив с собой чемодан и натюрморт в стиле Кокошки. Да и бутылку не забыл. Там он собирался глушить ее любимый напиток до тех пор, пока не остановится его разбитое сердце.
И под конец он смотрел на свою жизнь так, словно ее прожил кто-то другой, а не он, словно его жизнь — это не его жизнь, а кого-то другого.
К этому остается добавить только безмолвие и голубой цвет.
Конечные титры:
А теперь вы, может быть, захотите узнать, что сталось со свиньями и другими людьми и животными, которые появлялись и исчезали, вы ведь не знаете точно, живы ли они еице, и надеетесь, что с ними все хорошо.
Свиней, например, прикончили весьма нетрадиционным способом. Их усыпили большой дозой снотворного и, не дожидаясь, пока они уснут навсегда, перерезали им, мирно спящим, горло и спасли их для свадебного стола, засолив, нарезав на небольшие аккуратные кусочки и немедленно перевезя в деревню, в дом, который купил молодоженам Франц… А потом состоялась свадьба Ренье и Рамоны. Это был настоящий праздник. Ренье и Рамона смогли наконец наесться досыта.
Может быть, они и сейчас счастливы друг с другом.
Сняв Маринелли с должности и бросив его на произвол судьбы, венцы как ни в чем не бывало поехали дальше в Виналес, и мужчины вдоволь запаслись коибами. Из Виналеса они отправили один факс в Австрийское посольство в Гавану, а другой в Вену, министерскому советнику Смолке. Потом они вернулись в Вену, так и не встретившись с Габриэлем Гарсиа Маркесом и не добившись всемирной известности, и еще долгие годы рассказывали о Маринелли и о своей поездке в Гавану. Однако вскоре по возвращении они уже читали в кафе некрологи, где говорилось о том, что «навсегда ушел от нас Франц Маринелли».
Роза была безутешна, а Франца Маринелли похоронили в море, согласно его завещанию, и погребение состоялось на принадлежавшей другу семьи Маринелли — маклеру по продаже недвижимости и владельцу похоронного бюро — роскошной океанской яхте, которая вышла в открытое море из Пирана под Триестом, держа курс на Венецию.
Церемония похорон оказалась на редкость бурной.
Играл специально заказанный оркестр.
Не успела яхта выйти в открытое море, как поднялось небольшое волнение, но, несмотря на шторм, капитан приказал встать на якорь в намеченном месте.
«Наконец волнение достигло десяти баллов, — сообщает один из приглашенных. — Урна из цветного стекла с Мурано, та ваза из дворца на Рингштрассе, свадебный подарок, стоит на столе в салоне на корме верхней палубы.
Она соскальзывает со стола и разбивается на полу, на сизалевом [102] ковре, или это был флокати?[103]
Кое-кого из тех, кто пришел проводить Франца в последний путь, вырвало. Ковер, вместе с прахом и осколками вазы с Мурано, поспешно свернули и из последних сил выбросили за борт.
Бедная ваза с Мурано!»
Пусть это останется Йоргу Броде
Я буду ждать тебя всю жизнь и твоего звонка сегодня в половине восьмого. Рамона (англ.).
Итало Звево (наст, имя Этторе Шмитц, 1861–1928) — итальянский писатель.
Хузум — город на севере Германии, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.
Я тебя люблю, мой дорогой, — вечно твоя Рамона (исп.).
Коронные земли — коренные владения правившей в Австрии императорской семьи Габсбургов.
Шёнбрунн — дворец и парк в Вене.
Максимилиан Мексиканский — Максимилиан IV Габсбург (1832–1867), австрийский эрцгерцог, брат императора Франца Иосифа. Генерал-губернатор австрийских владений в Мексике, в 1864 г. возведен на мексиканский престол, впоследствии низложен не признавшим его населением Мексики и расстрелян.
Противовоздушные башни — построенные в 1940-е гг. по приказу Гитлера, напоминающие средневековые крепости сооружения, с которых предполагалось вести заградительный огонь по вражеским самолетам. Памятники эпохи национал-социализма в Германии и Австрии.
Отто Мюль (р. 1925) — австрийский художник-авангардист, основоположник акционизма и "психофизического натурализма" в живописи, участник хеппенингов, охотно эпатировавший публику. Неоднократно пытался основать в Австрии коммуны, члены которых считали своим долгом порвать с "буржуазной моралью". Подвергался арестам за оскорбление нравственности и антиобщественное поведение.