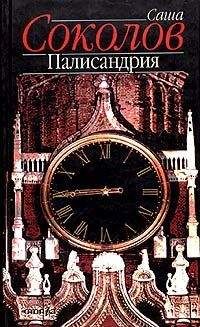«Фуй, какой вы шалун. Палисандр Александрович! Да ну вас прямо. Давайте мы лучше о Петербурге поговорим, о городе в целом. У нас масса открыток с видами этой Пальмиры. Сядем, будем рассматривать, припоминать имена архитекторов, инженеров, прорабов – да сколько бронзы пошло – да гранита – да извести – да при ком возвели – да зачем – да сколько рабочих погибло – да чаю согреем».
«Э-э, разве это открытки»,– взглянули вы искоса.
«Палисандр Александрович, а карты, карты? Пасьянсом так хорошо коротается вечер, что хочется, чтобы он никогда не кончался. Вам знакомо это желанье – не правда ли? – никогда».
«Тоже мне – карты,– надменничали вы, тасуя.– И не скушно вам так-то, с такими, то есть, картинками – а? С тоски удавиться можно. Вот я свои принесу – тогда и разложим».
И на следующий наш сестришник приносите вы такие уж мерзопакости, что мы даже не мыслили, что подобные вещи вообще практикуются. От стыда за этих негодников, в особенности за дам, с нами сделалась удивительная апатия, вялость, и мы просто сидели все тихо рядком и рассматривали. А потом разнервничались, разволновались, вино стали пить, пустились раскладывать, рассуждали, что вот как, оказывается, возможно – и так, и эдак, валет, мол, сбоку, король с припеку, а дама, бедовая ее голова, во все тяжкие: ералаш да и только.
А когда мы уж сами себя не помнили, вы приказали нам поиграть в дочки-матери – помните? Некоторые не послушались, уселись за клавесин да и бренчат себе некую чепуху опереточную, четверти что-то такое на три – жили-де у бабуси веселые гуси, аллегро. А прочие – они стали несколько нянчить друг дружку, словно бы были маленькие, несмышленые. Да мы ведь и были. Мы впали в далекое близкое – в детство. Мы выпали из ума, из воли. Вернее, вы отняли их у нас. Вы, вы, не отказывайтесь. Недаром – ах, как недаром! – мы находили в вас столько распутинского очарования.
Нянчим, значит, себя, пеленаем, бай-бай укладываем, вы же – присматриваете, наставляете, учите неумех уму-разуму. А раскапризничаемся, напроказим – то ата-та, ата-та нам, а зачастую и в угол. Поначалу-то все из-под палки, исподволь, но после так разыгрались, в этакий раж вошли, прямо куда там. Знать, верно ученые говорят, время все вылечит. А тут и медик как раз стучится: тик-так, тик-так. Пригляделись, а это вы, наш племянник. Только переоделись немного: бородку себе приклеили чеховскую, простынку на плечи набросили – чем не врач.
«Вызывали?»
«Тик-так, вызывали».
«Тогда раздевайтесь».
И распеленали для вас, Палисандр Александрович, матери дочерей своих, и раздели дочери матерей, и вы стали их пользовать. Вставили себе лупу какую-то в глаз и объясняете по-научному: «Будем пальпировать». И давай нас подряд всех пальпировать, то есть прощупывать, у кого что не так. Щупать, в сущности. Мы, конечно, в амбицию: мол, помилуйте, деточка, что же вы это себе позволяете, некрасиво, нелепо, у нас возрастная пропасть: вам рано, а нам, по всей вероятности, поздно. И по рукам, по рукам вас, чтоб впредь неповадно было. А вы говорили, бородкой-то чеховской нас щекоча где не след: «В течение профилактических процедур пациентам категорически воспрещено противиться. Отвлекитесь. Тик-так».
«Тик-так, Палисандр Александрович, тик-так, только трико-то хоть не снимайте».
А вы говорили: «Забудьтесь, считайте, что все понарошку, переходите в нирвану».
И забылись, разнежились, дуры набитые,– перешли. А что вы хотите – щекотно же. Да и любопытно притом – чем дело-то кончится. И не успели мы толком сообразить, что к чему – а оно уж и кончилось. Славную, славную задали вы нам профилактику, милый доктор, уважили, называется, на закате лет: только жилы похрустывали. Вылечить, может быть, и не вылечили, но разделали под орех. Какое уж тут понарошку, когда по всей форме использовали. Да и не один, если вдуматься, раз. И верно ведь вы декларировали, что ежели семью семь, то считай, что полностью: до нитки разоблачили. И восемью восемь точно: впоследствии клянчили все да заискивали: еще бы разочек, а, доктор, еще бы – девятью девять же, чего там греха таить. Правда, насчет шестью шесть вы неверно высчитали, поскольку сами-то – не разделись. Как были при бабочке, так и были: ни дать ни взять – Гиппократ. И даже рецепт на прощанье выписали: «Процедуры практиковать два-три раза в неделю». И лихо так расписались внизу: «Доктор Фрейд».
А потом вы нашли в прихожей на вешалке дирижерский, еще деда нашего, фрак – надели – пришпилили к лацкану объявленье: «Настройка запущенных инструментов» – и направились к тем из нас, которые упражнялись на клавесине, наивно себе полагая, будто буря их миновала. Напрасно радовались – досталось умницам на орехи, задали им по концерту для скрипки с хорошим смычком. В такое тремоло их всех чохом вогнали – только держись, все струны внутри дребезжали. Поделом же им, старым авоськам, будут знать, Палисандр Александрович, как от коллектива откалываться. Музыкантшам вы тоже толковую памятку прописали – у самых уже дверей: «Инструмент регулярно смазывать. Бах». И только мы вас, вундеркинда, и видели. Ай да пролаза, думаем, ай да ходок. Погодите, да вы же растлили нас – обесчестили – лишили всякой невинности! Немедля вернитесь и попросите прощенья! Вы слышите? Нет, даже не обернется. А ведь годами, годами.
А еще, если помните, где-то в Сокольниках, в Марьиной Роще и на Бегах проживали другие из нас, тоже более или менее многоюродные, кого вы приворожили не на дому, а на кладбище, где мы навещали почивших подруг. И поверите ли, мы тоже ждали годами, априори не чая в вас ослабевшей души, и не чая уже увидеть. Но вы приходили.
Вы возникали обычно в сумерках, перед закрытием, в пору, когда очертанья предметов призрачны, а черты отошедших особенно миловидны и памятны,– в час, когда наши склонившиеся над их вечным приютом фигуры, украшенные ниспадающей бахромой оренбургских пуховых платков и башкирских шалей, нисколько не отличимы от безутешных, горюющих вместе с нами плакучих ив – о, нисколько – и наш старушечий лепет вплетается в лепетанье их листьев и в копошение птиц, что гнездятся в их дуплах,– и черные наши ленты вплетаются в их побеги, в их косы – и наша плоть одевается их заскорузлой корой – и течение нашей крови свивается с хладными струями ивовой живицы, сукровицы – и свиваются наши судьбы и сроки – о нет. Палисандр Александрович,– неотличимы – ничуть. Правда, вы отличали нас, потому что являлись нам в образе палисандра – всегда и беспечно цветущего розами дерева роз – чрезвычайно ладного, гибкого, сладостно веющего благодатью негаснущих вечеров нашей юности – тех томительно будоражащих, знаете, вечеров – предвечерий – предночий, в которые, кажется, недостает только крыльев – лишь оперенья, дабы взлететь – воспарить – взметнуться. Однако в саду есть качели, и можно, зажмурив глаза, воздыматься и падать, и падать и воздыматься. А где-то поодаль играют прелюды, в крокет или просто беседуют, расположившись в плетеных шезлонгах, а на пруду – скрип уключин, плесканье купальщиков, и кто-то прислал вам записку: вас ждут. Но вы, разумеется, никуда не пойдете. Вы влюблены? Нимало. Просто вы замечтались улыбчиво, смотрите ласково на облака – те волшебны. И непередаваемо догорает закат. И вот тут-то в цветное стекло веранды ударяется шумный жук! Вы вздрагиваете: майский или июньский? Лукаво не мудрствуя, глянешь на численник и поймешь: если май – значит майский, а если июнь – непременно июньский. Но вечером тридцать первого мая по старому стилю – кто знает: такая неразбериха, сирень. Вы помните, сколько дискуссий на эту тему кипело в кружках дворянской учащейся молодежи, особенно вольноопределяющейся. «Не спорьте, голубчик, это типичный майский». «Неправда, июньский». «А я вас смею уверить, что майский». «Сами вы, братец, майский!» «А вы, а вы!» – и уж непременно стреляться. А экие страсти горели в среде разночинцев, и сколько там было вольнолюбивейших идеалистов, романтиков, незамутненных сердец. Вы помните? – где-то, когда-то, в каком-нибудь неопределенном уезде, когда вы только что поступили на курсы – или закончили их – или приехали на вакации, в доме родителей, кажется, в левом крыле, нанимал квартиру один перманентно всклокоченный телеграфист – страшный щеголь, и это, естественно, он посылал вам записки. Да-да, посылал-посылал, а потом уложился, упаковался – ив Тулу. И мы никогда уж не виделись – никогда. В Тулу, кто бы подумал. Ах, ничего-то вы, сударь, не помните, вас ведь тогда еще не было. Впрочем, являясь нам в образе палисандра, какие живые детали былого умели вы навевать, утешая словами листьев, лобзая губами бутонов и вдруг – утоляя наши печали нектаром пестиков. Но – пробужденье! Оно застигало подобно форменному кошмару – врасплох.
Под утро, когда все чары рассеивались, мы вспоминали, что вот, вечор, перед самым закрытием, вы подошли к нам в обличий мастерового с предложеньем обычных услуг: подновить ли ограду, поправить ли покосившийся крест: «Что, мамаша, потрафим усопшему?» А мы все отказывались, отстранялись: «Нет, нет, благодарствуйте»,–а вы все настаивали, приступали: «Потрафим, потрафим», – и, очаровывая, сулили прелестное. «Вам,– говорили вы,– будет приятственно». Честно сказать, вы безумно интриговали нас, молодой тогда человек. Мы поистине млели от любопытства и вместо того, чтобы звать бродивших в окрестностях сторожей, чтобы они колотили вас колотушками,– в ужасе – в каком-то радостном ужасе! – мы соглашались. На – все. И когда это все начиналось и длилось, а длилось оно всю ночь, мы, желая идеализировать ситуацию, предавались иллюзиям, фантазировали: «Мы – ивы, ивы, согбенные ивы, а он – палисандр, палисандр, палисандр, веющий благодатью негаснущих вечеров». И впадая в патетику, отдавались душою и телом. Пылко! Подобострастно. Однако под утро все чары рассеивались, и мы обнаруживали себя в обстоятельствах крайне стеснительных, скомканных, непоправимых. Нам открывалось, что мы никакие не ивы, а вы – никакое не дерево роз, и пуховые наши платки сиротливым укором висели на так и не выпрямленных крестах и на зубьях так и не выкрашенных никем оградок.