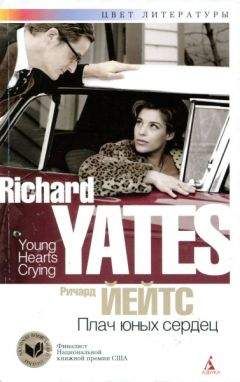— Ну, это вряд ли, — сказала Люси.
Энн окинула ее долгим взглядом. Она смотрела оценивающе, с неодобрением.
— Да уж, думаю, что вряд ли. Вы еще молоды, вы красивы — мне нравится ваша новая прическа, — в вашей жизни мужчин еще будет сколько угодно. Фортуна еще долго будет к вам благосклонна; может быть, всегда. — Тут она слезла со стула и отступила на два-три шага, поправляя одежду. — Как вы думаете, сколько мне лет? — спросила она.
Люси растерялась. Сорок пять? Сорок восемь? Но Энн Блейк не стала дожидаться ответа.
— Мне пятьдесят шесть, — сказала она и вернулась к своему месту у кухонной стойки. — Мы с мужем соорудили все это больше тридцати лет назад. Вы и представить себе не можете, какие у нас были надежды! Если бы вы только знали моего мужа, Люси! Он был сумасбродом во всем — он и сейчас сумасброд, — но вот театр он любил по-настоящему. Нам хотелось создать летний театр на зависть всему северо-востоку, и у нас почти получилось. Кое-кто из наших и вправду попал отсюда прямо на Бродвей, но что толку сыпать именами — все равно вы скажете, что никогда о них не слышали. Но уверяю вас, в те годы жизнь у нас здесь кипела: молодежь к нам съезжалась замечательная — мальчики и девочки, созданные для успеха, которого они, однако, так и не добились. Ладно. Не стану вас задерживать. Извините, Люси, что вывалила на вас все свои проблемы. Просто вы были первой, кого я увидела после того, как Грег… после этого его мерзкого звонка, и я…
Она не смогла сдержаться, губы у нее задрожали.
— Что вы, Энн, не стоит извиняться, — быстро проговорила Люси. — Вы меня совсем не задерживаете. Хотите, я посижу с вами, — быть может, вам станет легче.
Раньше в этом доме Люси никогда дальше кухни не приглашали, и она ощутила странную гордость, когда Энн Блейк провела ее в гостиную. Комната оказалась на удивление маленькой — вообще весь дом был меньше, чем казался снаружи, и наверху, куда вела лестница, вероятно, не было ничего, кроме роскошной спальни на двоих. Наверное, когда в двадцатые годы в популярных песнях пели про «любовное гнездышко», имелось в виду что-то в этом роде.
— Вы, наверное, заметили, что камин здесь слишком большой, — говорила Энн. — Это мой муж так захотел. Думаю, ему нравилось воображать, как мы с ним будем сидеть здесь на диване перед сном, в тепле и уюте, прижиматься друг к другу и глядеть на огонь. Он был жутко сентиментальный. Я, конечно, не знаю, что за дом он построил для своей стюардессочки, но готова поспорить, что камин там не меньше. — Она помолчала и потом добавила: — Грегу он тоже всегда нравился. Он мог часами глядеть на огонь, он его завораживал, и я, бывало, шла наверх одна, лежала там и думала: «А как же я? Как же я?» — На ее лице снова проступило отчаяние. — Ну и черт с ним. Теперь мне, наверное, никогда не придется разводить здесь огонь.
— Может, сейчас развести?
— Ну что вы! Мне, конечно, очень приятно, но у вас наверняка есть чем заняться и помимо…
Как всегда в конце февраля, на улице было ветрено. Люси взяла три или четыре полена, сваленные в кучу у кухонных дверей, стряхнула с них снег и набрала растопки; войдя со своей ношей в гостиную, она обнаружила, что Энн открыла бутылку скотча.
— Пить еще рановато, — сказала та, — но кому какая разница? Вы ведь не возражаете?
Вскоре первые уверенные языки пламени поползли вдоль шипящих поленьев, и по комнате распространилось ощущение заслуженного покоя: Энн Блейк по-детски свернулась на диване, а ее гостья устроилась в мягком кресле. Люси никогда не любила скотч, но теперь выяснялось, что стоит только отвлечься от вкуса, и он окажется не сильно хуже бурбона. Свое дело он делал. Мир уже не казался таким жестоким.
— Люси, вы ведь богаты, да?
— В общем, да, но откуда вы знаете?
— А у меня нюх на деньги. Майкл никогда этого запаха не источал, а от вас всегда ими пахло. Наверное, не стоит называть это «запахом», — надеюсь, я вас не обидела.
— Нет.
— А кроме того, я пару раз видела ваших родителей. Богатство у них на лбу написано. Старое богатство.
— Наверное, так и есть. У нас в семье всегда было довольно много… довольно много денег.
— Тогда я не понимаю, почему вы продолжаете жить здесь. Почему вы не увезете дочь куда-нибудь, где вы могли бы жить с людьми вашего круга?
— Наверное, потому, что я не знаю, какой круг мой, — сказала Люси.
Сначала казалось, что это на самом деле не ответ, но чем больше она над ним думала, тем лучше он выглядел. Это было ближе к истине, чем говорить: «У меня здесь друзья», тем более ссылаться на то, что «было бы несправедливо по отношению к Лауре предпринимать какие-то резкие шаги». На самом деле она все время приближалась к истине — и, возможно, ей уже не хотелось подходить еще ближе; теперь, наверное, нужно было отдаться тому, что она и так в глубине души знала все это время. Истина — ну и что с того, что для ее прояснения нужно было дождаться, когда в крови заиграет виски, которым ее угостила Энн Блейк? — истина состояла в том, что ей не хотелось расставаться с доктором Файном.
Она уже дважды разрывала с ним отношения, и оба раза, гордо выйдя из его приемной, с вызовом садилась в машину и ехала домой с высоко поднятой головой, но уже через несколько недель смиренно возвращалась назад. Неужели остальные тоже испытывают такую привязанность к собственному психоаналитику? Неужели все остальные тоже перебирают события прошедшего дня, чтобы было о чем рассказать этому уроду, когда придешь к нему в следующий раз?
«Ну вот, в среду я напилась со своей квартирной хозяйкой, — начала она проговаривать про себя свой следующий монолог, почти наверняка зная, что именно так он и прозвучит в кабинете доктора Файна. — Ей пятьдесят шесть лет, и ее только что бросил мужчина гораздо моложе ее — никогда не видела человека в более жалком положении. Видите ли, я, вероятно, надеялась, что, если я останусь и выпью с ней, это хоть немного отвлечет меня от себя самой. Как в прошлый раз, помните, когда Нэнси Смит рассказала мне про своего брата и я перестала думать только о себе? Потому что, доктор, невозможно же жить только для себя, дышать только для себя, думать только о себе, себе, себе…»
— А я не представляю, как жить с большим состоянием, — продолжала Энн Блейк под треск поленьев. — Впрочем, я никогда об этом не думала, потому что мне-то всегда хотелось не больших денег, а большого таланта, хотя и на средний я тоже с радостью согласилась бы. Но мне почему-то кажется, что эти две вещи во многом схожи. Что талант, что деньги сразу же тебя выделяют. Они могут дать то, о чем другие даже и не мечтают, но в то же время они требуют постоянной ответственности. Ими нельзя пренебрегать, нельзя не обращать на них внимания, иначе никакого толку от них не будет, они обернутся пустотой и бесплодностью. И самое ужасное, Люси, что пустота и бесплодность легко превращаются в образ жизни.
«…И в какой-то момент она меня поразила, доктор. Она сказала: „И самое ужасное, Люси, что пустота и бесплодность легко превращаются в образ жизни“ — и это прозвучало как пророчество. Потому что к этому постепенно и сводится вся моя жизнь, вы же видите. Эта невротическая поглощенность собой, которую вы постоянно поощряете, — поощряете-поощряете, доктор, даже не пытайтесь это отрицать, — эта беспомощность, это ощущение инертности. Это все бесплодность. Это все пустота…»
— Люси, — обратилась к ней Энн, — будь так добра, дорогая, задерни шторы, чтобы я не знала, сколько сейчас времени. Вот так, спасибо тебе. — И когда комната погрузилась в полумрак, она добавила: — Так лучше. Мне хочется, чтобы здесь всегда была ночь. Чтобы всегда была ночь и чтобы утро никогда не наступало.
Виски оставалось еще четверть бутылки — Люси это выяснила, поднеся ее к огню, — и она уверенно налила себе еще одну солидную порцию, чтобы, не дай бог, не позабыть все то, о чем она собиралась рассказать доктору Файну.
— Я, наверное, прилягу прямо здесь, Люси, если вы не возражаете, — сказала Энн. — Я в последнее время почти совсем не сплю.
— Конечно, — сказала ей Люси. — Конечно, Энн.
Тишина, воцарившаяся в комнате, как нельзя лучше отвечала ее собственной потребности в уединенном размышлении.
По дороге к дверям она слегка задела стену, и ей пришлось немного постоять, прислонившись к ней, чтобы снова обрести равновесие; зато пальто ее обнаружилось, к счастью, ровно там, где она его оставила.
Обледенелый и заснеженный простор, отделявший кухонную дверь Энн Блейк от дома Люси, простирался не больше чем на пятьдесят ярдов, но этот путь показался ей бесконечным; и, все же преодолев его, она еще долго стояла на обжигавшем лицо ветру и с отвращением разглядывала обледенелую винтовую лестницу. Никакого разговора с этой дурацкой лестницы в принципе начать нельзя, разве что самый бессмысленный и тупой из всех возможных.