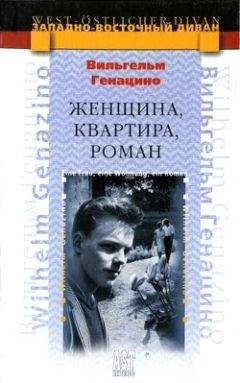– Понятно, – рассеянно говорю я.
– Да, тряпки тебя действительно не интересуют.
– Мне попросить у тебя за это прощения?
Сюзанна смеется и отставляет подсвечник на самый дальний край комода. На дне большой вазы, наполовину заполненной апельсинами и яблоками, я вижу упаковку таблеток от головной боли. Все ясно, отмечаю я про себя.
– Только не думай, что я тут развела эту возню со свечами для создания романтической обстановки. Я эту пошлость сама не люблю. Просто не хочу, чтобы ты меня видел во всей моей красе.
– Ах ты боже мой! – отвечаю я. – Тоже мне нашла проблему. Опять типично женское заблуждение. Кому нужно вас особо разглядывать?
– Я знаю, это ты меня так успокаиваешь, – говорит Сюзанна.
– И себя заодно.
В глубине души Сюзанна явно склонна к меланхолии, именно поэтому нам есть о чем поговорить и мы как-то понимаем друг друга. Хотя мне до сих пор не очень ясно, знает ли Сюзанна о том, что она склонна к меланхолии. Обилие материальных предметов, к которым она относится с явным благоговением (слишком много шмоток, слишком много развлечений, слишком много внимания к смыслу, слишком много всяких украшений), все это свидетельствует скорее о том, что она не догадывается об этом.
– Не бойся быть скучной, – говорю я.
– Почему ты так говоришь?
– Потому что невозможно отрицать тот факт, что любовь со временем становится неотделимой от скуки.
– Нет. Такого я не могу себе позволить.
– А что тебе мешает?
– Я и так полжизни борюсь с мыслью о том, что меня просто-напросто нет.
– Скучным женщинам удается в жизни гораздо больше, чем нескучным. Они способны на долгое и глубокое чувство, – говорю я.
Сюзанна кладет два апельсина и одно яблоко рядом с подсвечником.
– Будешь есть апельсин? – спрашиваю я.
– Нет. Просто, когда я лежу в постели, мне хочется иметь перед глазами какие-нибудь фрукты, иначе рано или поздно мне начинает казаться, будто я лежу в морге.
– Ты слишком много думаешь, – говорю я.
– Конечно. А ты что – нет?
Мы смеемся и целуемся. Потом Сюзанна садится на край кровати.
– Слушай, посмотри на меня разок как следует, критическим взглядом, – просит она, выставляя свои голые ноги.
Я сажусь на единственный в комнате стул и начинаю разглядывать Сюзанну. Я немного боюсь того, что таким женщинам, как Сюзанна, обязательно нужно во всем быть на высоте. Им подавай все самое лучшее: шикарную еду, шикарные рестораны, шикарные тряпки, шикарные выходные и шикарное тело.
– Ну и как? – спрашивает Сюзанна.
– Что «как»?
– Ты ничего не замечаешь?
– Не знаю, к чему ты клонишь.
– Ну, посмотри как следует.
Я рассматриваю Сюзанну со всех сторон настолько пристально и внимательно, насколько это возможно после одиннадцати часов вечера.
– Ты разве не видишь, – говорит Сюзанна, – у меня под коленками вон какие штуки наросли!
Я молча гляжу на Сюзаннины коленки.
– Сначала у меня появились тут какие-то шишки или бугры, я думала, рассосется, пройдет. Ничего подобного! Они всё росли и росли, стали мясистыми такими, здоровыми. А теперь, пожалуйста, как будто у меня на каждой ноге по две коленки! Ноги как у старухи!
Сюзанна принялась давить на свои коленки, ощупывать их, будто проверяя, не расползлась ли болезнь.
Я снимаю рубашку и брюки и говорю:
– Есть только два главных признака, по которым можно судить о том, что человек состарился. У мужчин это уши, они становятся длиннее, а у женщин – носы, они у них всегда тоже вытягиваются.
Сюзанна смеется и забывает про свои двойные коленки, во всяком случае на время. Она утягивает меня за собою в постель и начинает целовать так, как будто мы куда-то торопимся. Я несколько озадачился, но тут же спохватился и сказал себе, что мое недоумение в данном случае неуместно. Ты пожинаешь то, что посеял: ты сделал всё, чтобы приобрести значение в глазах этой женщины. Сюзанна, не отрываясь от меня, переворачивает меня на спину. Она торопится. Может быть, оттого, что стыдится своей груди, которая, как ей кажется, утратила былую упругость. С первого раза у нас ничего получается. Второй заход тоже ничем не кончился. Я замечаю, что забыл снять носки. Мне почему-то вбилось в голову, что для Сюзанны это будет ударом. В настоящий момент я никак не могу незаметно избавиться от своих носков. Меня самого эта творческая неудача нисколько не расстраивает. Скорее наоборот. В неудачах есть что-то невинное. Они деликатно напоминают мне о том, что я ничего не понимаю в жизни и никогда не понимал. Стоило мне об этом подумать, как я впал в мое обычное состояние духа, когда мне кажется, что я лишь кое-как могу справиться с очередной жизненной ситуацией и потому все, что я делаю, я делаю случайно и как бы по недоразумению. Интересно, что у Сюзанны такое мягкое тело и от него исходит какая-то детская доверчивость. Чувство случайности жизненных поступков, вырвавшись на свободу, трансформируется в отчетливое представление о том, что меня ждет постыдное мелкое поражение. Я не знаю, что будет дальше и как я буду выбираться из этой ситуации, но я упорно продолжаю делать свое дело и делаю до тех пор, пока у меня не возникает четкое ощущение, что всё, процесс пошел. Мы больше ничего не говорим. Я аккуратно переворачиваю Сюзанну на спину, стараясь при этом подцепить кусок одеяла, чтобы закрыть свои носки. От Сюзанны исходит какой-то кисловатый запах, который ей самой, наверное, не нравится, но на меня он действует возбуждающе. В постели вдруг запахло так, как пахло из открытой хлебницы на кухне у нас в доме. Сюзанна смотрит на меня, и мне хочется сказать ей: успокойся, так пахнет в хорошей, старой булочной. Но мне почему-то кажется, что Сюзанна не одобрит такое сравнение. Недопустимо оскорблять возвышенные чувства, приличествующие данному моменту, пошлыми образами грубой действительности. Я решил сосредоточиться на не охваченных лаской частях Сюзанниного тела и спустился немного пониже. Именно в этот момент мне почему-то вспомнился Химмельсбах. Я представил себе, как он с Марго гуляет по городу. Опасные мысли, сейчас опять все пойдет насмарку. Мне становится смешно, когда я снова представил себе мелкие подростковые хитрости Химмельсбаха, оглаживающего Марго. Я долго и с удовольствием целую Сюзанну в живот.
Вот так, учись, дружище, обращаюсь я мысленно к Химмельсбаху и сползаю еще ниже. На каждый поцелуй я трачу гораздо больше времени, чем предусмотрено обычной нормой. Образовавшийся излишек уходит у меня на то, чтобы попытаться изгнать Химмельсбаха из своего сознания. Меня бросает в пот оттого, что я не знаю, справлюсь ли я с этой задачей. Я весь вспотел, особенно голова и шея. Если так пойдет дальше, нам с Сюзанной придется начинать всё сначала. Я прямо не знаю, что предпринять, чтобы не думать о Химмельсбахе. Я пытаюсь сосредоточиться на Сюзанне. При этом мне кажется, что подо мной не женское тело, а моя жизнь, перед которой я бью поклоны. Я кланяюсь и кланяюсь и одновременно чувствую, что это хороший способ заставить жизнь склониться передо мной. Так, чуть ниже Сюзанниного пупка у меня появилась надежда, что все-таки настанет день, когда я, быть может, смогу выписать себе разрешение на эту жизнь, нужно только не полениться и отдать ей достаточное количество поклонов. Если их будет много, то в конце концов никто уже и не разберет, это я склоняюсь перед жизнью или она передо мной, а мое бесконечное долготерпение будет вознаграждено должным образом. Судя по всему, идея с поклонами оказалась очень удачной. Химмельсбах бесследно исчезает из моих мыслей, и я перестаю вести с ним воображаемый разговор. Избавившись от лишнего груза, я возвращаюсь к Сюзанне и, окрыленный успехом, с воодушевлением довожу дело до победного конца. Сюзанна притихла. Я смотрю на нее, и мне хочется задать ей один вопрос. Но, пожалуй, не буду. Притихшим женщинам, как известно, вопросов лучше задавать не надо.
Несколько дней кряду я размышлял над тем, что мне делать с чувством досады, которое настойчиво толкало меня к тому, чтобы отказаться от работы и забыть обо всех башмаках вместе взятых. Вчера вечером я принял окончательное решение повременить с отказом, невзирая на снижение зарплаты. Я сижу в комнате и печатаю очередной отчет о последней партии, полученной мною от Хабеданка. Конечно, случалось, я и прежде подмухлевывал, но чтобы у меня в отчете шел один сплошной мухлеж – такого еще не бывало. Впредь они будут получать от меня только такую липу, а непроверенные башмаки я буду продавать на рынке, чтобы компенсировать сокращение ставки. На улице зарядил дождь, и это уже не первый день. Я сижу у открытого окна. Мне нравится запах, который источает город после затяжных дождей. Он складывается из запаха стройки, тины, плесени, мочи, пыли, болота и ржавчины. Время от времени я отрываюсь от работы, чтобы походить по квартире, посмотреть на людей в соседних домах. Они тоже смотрят на меня, никто ни от кого не прячется, иногда мы даже улыбаемся друг другу, – это, наверное, дождь настроил нас на такой мирный лад. Самое яркое впечатление на меня произвела сегодня женщина, по виду лет шестидесяти, которая старательно смела всю грязь на своем в балконе в маленькую кучку и так ее и оставила. Она ушла обратно в комнаты и теперь посматривает из окна на дело рук своих. Я вполне готов смириться с тем, что это главное событие этих дождливых дней. Другого мне не надо. Поднялся ветер и разметал аккуратную кучку. Женщина смотрит на то, как уничтожаются следы ее труда, но ничего не предпринимает, чтобы воспрепятствовать этому. На третий день дождя мне позвонила фрау Балькхаузен. Я разговариваю с ней сначала сдержанно, с оттенком некоторого недоумения. Если быть честным, я просто не знаю, что меня связывает с фрау Балькхаузен, и мне, судя по всему, не удается скрыть этот факт. У меня сразу возникло то особое телефонное чувство, которое бывает у меня довольно часто: ощущение того, что я должен подготовиться к дурной вести, но просто не успеваю этого сделать, поскольку трачу на подготовку слишком много времени, и потому вынужден принимать эту дурную весть с открытым забралом. Впрочем, то, что сообщает мне фрау Балькхаузен, звучит, скорее, как жалкая пародия на хорошую дурную весть. Фрау Балькхаузен принадлежит к числу тех людей, которым удается беседовать со мною без какой бы то ни было встречной реакции с моей стороны.