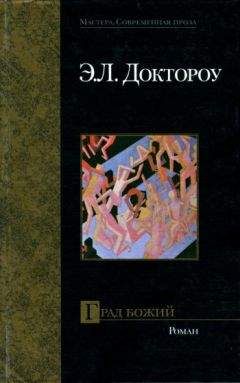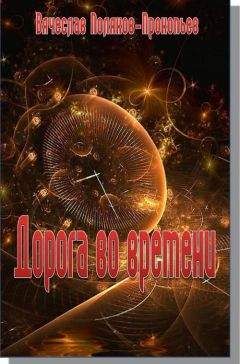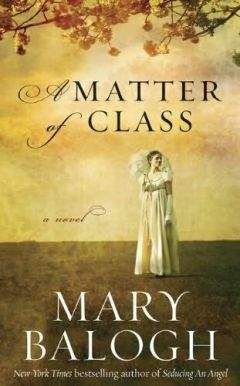Она хранила рукописи Барбанеля в неизвестном мне месте, но догадываюсь, что сама должность медицинской сестры предоставляла ей какие-то возможности для передачи архива куда-то на волю, за реку, в потайное место в городе или в его предместьях.
К тому времени, когда я узнал о существовании дневника Барбанеля, он, должно быть, содержал уже тысячи страниц, целые тома, грузовик материала. И поскольку ни он сам, ни Грета не рассчитывали, что им удастся пережить уничтожение гетто, то все документы к тому времени были зарыты в землю Восточной Европы, в ее обломки, в пыль и остатки ее христианской традиции.
Сам я не писатель и не могу передать то чувство, которое внушала эта пара, не могу передать их живое присутствие, их дыхание, всепобеждающее ощущение радости жизни, которое они внушали всем, кто находился рядом с ними. Память о моем преклонении перед этими людьми скрывает истину: они ничем не выделялись из общей массы и, не будь войны, вели бы весьма скромную жизнь. В них не было бы ровным счетом ничего необычного — в Иосифе Барбанеле и Грете Марголиной, не больше, чем в моих родителях или в любом из нас.
Сейчас я думаю, что хотя доктор Кениг знал о существовании архива и одобрял действия своего заместителя, он не знал — или делал вид, что не знает, — о его коротковолновом приемнике, который хранился в двойной стене нашей спальни на чердаке совета. Два или три раза в неделю он по ночам взбирался по лестнице в нашу комнатку, и мы помогали ему вскрывать перегородку и вставлять вилку в розетку, хитроумно прикрепленную к проводам нашей единственной лампы. Несколько раз мы тренировались быстро прятать приемник. Один из мальчиков всегда дежурил у окна, а второй стоял на страже у двери, прислушиваясь к малейшему подозрительному шороху, который мог донестись снизу.
Невозможно переоценить то моральное воздействие, которое оказывали на нас эти ночные слушания, и, я думаю, Барбанель понимал это. Скрестив ноги, он садился на пол, надевал на голову наушники и, закрыв глаза, слушал ночную передачу британского радио. Мы внимательно следили за выражением его лица, стараясь понять, хорошо или плохо идут дела на фронтах. Он сидел неподвижно, то согласно кивая, то огорченно встряхивая головой, то молча сжимая кулак, в течение всех пятнадцати минут, пока передавали новости. Барбанель не испытывал страха, поглощенный тем, что слышал, и испытывая лишь духовную связь, которая в такие моменты соединяла его с остальным миром.
Слушал он старенький немецкий «грундиг», настольную модель с закругленными краями, матерчатой перепонкой, прикрывавшей динамик, и верньером, который вверх и вниз перемещал указатель на светящейся шкале коротких волн. Я чувствовал, что, глядя на мерцающую шкалу, смотрю в космос. Вид приемника наводил меня на философские мысли. Почему цифры на шкале нацистского приемника были понятны и мне, еврейскому мальчику? Потому что числа неизменны. Их порядок утвержден навеки, это универсальная истина. Даже нацисты вынуждены подчиняться этой истине. Но если числа означали одно и то же для всех без исключения людей во вселенной, то не запечатлел ли их в нашем мозгу сам Бог? И если так, то, наверное, для того, чтобы научить каждого природе истины. Верно, например, что два плюс два чего бы то ни было равно четырем. Не важно, что мы прикладываем к числам, сами они остаются незыблемыми и вечными, являясь сжатой до минимума истиной.
Мне не было нужды открывать свои сокровенные мысли отцу или портному Сребницкому. Но в темноте нашего чердака я самозабвенно вынашивал идею насчет того, что числа суть неистребимое и истинное творение рук Бога. (И нацисты никогда не поймут этого.) Я думал о том, что Он дал нам силу воспринять разумом это Его истинное неистребимое творение. Разум стал таким, что теперь мы будем в состоянии принять мессию, когда он явится, и его суть станет ясна нам, как два плюс два равняется четырем, и явление его принесет во вселенную узнаваемую, непреходящую и благотворную Божью истину всем и всему в мире на все грядущие времена. Таковы были детские мысли, которые посещали меня во тьме, сгущавшейся вокруг светящейся шкалы старенького «грундига».
* * *
Я хочу сказать, что Сара работает, она растит детей, ведет хозяйство. Она отошла от Эммануила и работает теперь только с тем, что осталось от их маленькой конгрегации. Но ее состояние гораздо глубже, чем простая скорбь. Я вам кое-что скажу — давайте еще повторим, прошу вас! — я скажу вам кое-что, эта женщина… Нет, не то чтобы она была ангелом, обладающим нечеловеческим совершенством… но в ней присутствует такая серьезность души, такая непомерно огромная внутренняя… не знаю, как назвать это… красота. То, о чем я говорю, не обычное благочестие, не святость, я ненавижу это слово, это больше похоже на то, как если бы она была одарена скромной городской благодатью — ну, как если бы… она живет в Нью-Йорке, но одновременно… в стране Тиллиха, в стране предельной озабоченности. Я не слишком бессвязно выражаюсь?
Нет, думаю, я все понял.
Вы были правы, меня влечет к ней. Вы это правильно ухватили. Я не помню, чтобы мне приходилось выражать это так многословно. Боже, я люблю ее и хочу быть с ней. Я обращусь в иудаизм, если дело станет только за этим. Но я не делаю никаких шагов. У меня такое чувство, что мое признание сделает меня тривиальным в ее глазах, я проявлю слабость, которую она, конечно же, немедленно простит, проявлю непонимание ее серьезного, улыбчивого, безвозвратного… вдовства.
И хотите верьте, хотите нет, я тоже оплакиваю его. Какое мужество принять вызов и сразиться с самим Богом в нашей современности, в нашем веке, с нашим религиозным самосознанием. Поиск Бога, в которого можно верить, как я хорошо его понимаю. Худощавый, жилистый, маленький Джошуа, настоящий бегун, он был истинным интеллигентом, но непритворно скромным. Он всегда хмурился — я не знаю, может быть, он строго судил себя? — у него была серьезная, добрая душа, опрятное, чистоплотное мышление, очень естественная для него отточенность ума, и именно это она любила в нем, как в супруге, как в отце своих детей. Я хочу сказать, что они оба приковали меня к себе, очаровали. Разве это не редкость? Где вы видите в наше время людей Божьих, рядом с которыми хочешь находиться всегда?
* * *
Как раз в это время несколько домов на южной окраине гетто превратили в небольшую больничку на тридцать или сорок коек; те же немцы, которые сожгли прежнюю больницу, решили, что больных инфекционными болезнями надо выявлять, изолировать, а потом разбираться с каждым в отдельности не столь расточительным способом, как сожжение лазарета. Доктор Кениг, вне всякого сомнения, был полон решимости никогда больше не госпитализировать в такую больницу ни одного инфекционного больного. Сильно рискуя, он лечил таких больных на дому, выставляя в их медицинских картах фальшивые диагнозы. Я уже говорил тебе о его храбрости, и это было одним из ее проявлений. Но это было далеко не все. Вместе с еще одним еврейским врачом и госпожой Марголиной Кениг иногда госпитализировал в лазарет отнюдь не больных, а людей, которым грозили поимка и казнь. В этой же больнице тайно принимали роды. Из-за всего этого больница была весьма уязвимым местом, и ее безопасность постоянно оставалась в центре внимания совета.
Однажды утром я, как обычно, пришел в больницу со спрятанным под рубашкой пакетом бумаг от Барбанеля. Госпожа Марголина в это время принимала в кабинете человека, который, судя по всему, изрядно действовал ей на нервы. Она посмотрела на меня и едва заметно качнула головой; я сразу понял, что сейчас не время передавать ей бумаги. Я прислонился к стене возле двери и принялся ждать.
— Вы не больны, — сказала сестра Марголина мужчине. — Ваше здоровье в полном порядке.
— Как вы можете так говорить? — Он обернулся ко мне, широко улыбнулся и оглядел меня с головы до ног — от фуражки гонца до стоптанных башмаков. — Как вы можете утверждать, что я здоров? Ведь вы меня даже не осмотрели.
У мужчины было уродливое лошадиное лицо, испорченные, почерневшие зубы. Говорил он на не совсем правильном идиш. Пациент был одет в крестьянскую одежду, а обут в тяжелые, заляпанные грязью ботинки. Мужчина был в шапке, хотя находился в помещении и в присутствии женщины.
— Вы должны осмотреть меня, если я говорю, что болен, — заявил он госпоже Марголиной.
— Вам надо обследовать голову, — ответила медсестра. — Возвращайтесь на работу, и если вы снова ко мне придете, то я донесу на вас.
Она открыла дверь в смежный кабинет, окинула посетителя холодным взглядом и вышла, закрыв за собой дверь. Было слышно, как она заперла дверь на щеколду.
— Ты знаешь, чем я болен! — закричал мужчина. — Я — человек, который заболел от любви к тебе!
Он посмотрел на меня; улыбки как не бывало.
— Что ты на меня уставился? — злобно спросил мужчина.