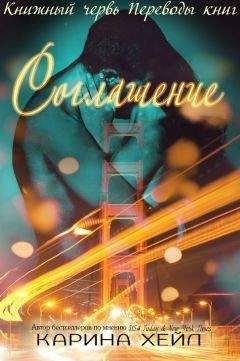— Что вы? Вылечат ваши бронхи.
Свет становится ярче. В палату заходит врач Майя Павловна. Обращается к отцу Сергию:
— Сразу вас успокою — инфаркта нет. Сергей…
— Петрович, — подсказывает священник.
— Когда, скажите, возникла боль?
Вдруг ему делается тепло. Всегда спрашивают: когда началось? «И спросил он отца его: как давно это сделалось с ним?» После всех сегодняшних событий — вот, Майя Павловна, симпатичнейший человек, принесла известие, что он еще поживет, что инфаркта нет. Все становится просто и хорошо.
— Почему вы расстраиваетесь? — Она неверно поняла его настроение. — Когда все-таки появилась боль?
— Днем сегодня. Я повздорил с женой. — Он вспоминает: который был час? — Я… виноват перед ней.
— Сергей Петрович, есть что-то, о чем мне следует знать как врачу? — Правильно, он не на исповеди. — Вы кем работаете?
Не хочется ее обманывать, но куда денешься?
— Я геолог.
Она его смотрит, слушает. Ничего примечательного. Правая рука у него дрожит, она часто дрожит у священников, ею чашу держат. Как теперь объяснишь?
— Сергей Петрович, вы тут? — чуть-чуть, одними глазами, она ему улыбается.
План такой: он останется до утра, они кое-что проверят, а там — решим. Провода пускай будут прицеплены, а если надо встать по нужде, то его отцепит сестра. Несколько таблеток он должен принять. И укол в живот.
— Нет, — смеется она, — не от бешенства.
Пока что следует расценивать его состояние как нестабильное, хотя, скорее всего, ничего нет. Здоровый человек тоже может скверно себя почувствовать.
Перешла к соседу. Все слышно: какие могут быть тайны в реанимации?
— Нельзя вынимать эту штуку из носа!
— Да из нее ничего не идет!
— Кислород идет. И плаксивый тон свой оставьте, пожалуйста.
Разговор продолжается в том духе, что если он, Пурыженский, прекратит лечиться, то дела его плохи, и даже если не прекратит, то тоже — нехороши. Что насос, через который вводят лекарства, работает, и если писатель не замечает движения поршня, то это не значит, что поршень стоит: не видим же мы, как меняют свое положение часовая и минутная стрелки, не правда ли?
В ответ на какие-то соображения Пурыженского про литфондовскую поликлинику Майя Павловна заявляет, что не знает никакой Сюзанны Юрьевны, и Жанны Юрьевны тоже, и что очень мило со стороны этой самой Жанны-Сюзанны, что та послушала легкие, но если бы она иногда еще сердце слушала, то не пропустила бы, вероятно, какой-то там недостаточности, которая и стала причиной того, что он здесь. Завтра она попробует договориться с хирургами — нет, московскими, — но дотянуть до операции можно лишь при условии, что Пурыженский даст себя полечить.
На какое-то время кажется, что сопротивление больного сломлено, но потом тот заявляет, что больница ведь — не тюрьма и что он, Пурыженский, требует его немедленно выписать, отпустить. И Майя Павловна несмотря на третий час ночи повторяет все свои доводы в пользу того, чтоб продолжить лечение, и они договариваются, что Пурыженский немного подумает, но, когда она выходит из палаты, он сразу говорит, что уйдет.
— Простите, что вмешиваюсь, — обращается к нему отец Сергий. — Вы делаете ошибку.
— Вам легко рассуждать, — отвечает Пурыженский. — У вас все иначе, чем у меня.
У тебя нет инфаркта, вот что хочет сказать сосед. И друг другу мы все — другие. Да, так и есть. Особенно он, священник, всем и всегда — другой.
— Человеку необходим весь диапазон чувств, — продолжает Пурыженский. — Не могу я жить в свете одной лишь печальной необходимости.
Отец Сергий наконец-то собрался с мыслями:
— По-видимому, Майя Павловна — совершенно исключительный врач.
— Не думаю. Слишком красивая.
Пурыженский жмет на кнопку. Медсестра, очевидно, спала, но приходит на вызов быстро и за дело берется с большой готовностью: этот больной сильно здесь надоел.
Монитор Пурыженского затих, трубки из писателя вынуты, брошены на пол — баб Маш, убирай! Силой не держим, пиши отказ и всё, до свидания, по месту жительства.
— Что писать? Ах ты, кончилась ручка! — Пурыженский в полном отчаянии.
Отец Сергий встает с кровати, чтобы протянуть писателю свою ручку, отодвигает ширму и видит его.
Полуголый, рано состарившийся мужчина: короткая толстая шея, свалявшиеся патлы, толстые губы, груди, живот, много седой растительности на теле. Бинты на обеих руках. Щетина. Язык от старания высунул.
— Я, такой-то такой-то, — диктует сестра, — отказываюсь от лечения в стационаре, о возможных последствиях предупрежден, претензий к персоналу не имею. Если имеете, укажите какие. Подпись, число.
Пурыженский едва поспевает за ней.
— Да какие претензии… — машет свободной рукой.
Священник смотрит на этого некрасивого, путаного человека и внезапно думает: а ведь это я сам. Не брат мой, не ближний, не «другое я» философов и писателей, а просто — я. Иные обстоятельства и биографии разные, и тем не менее — я, я и есть. Босой, почти голый, сидит на койке, чего-то ждет. Смотрит расфокусированным взглядом в пространство.
— Одевайтесь, — говорит медсестра, — и на выход. Выписка, больничный — всё завтра. Ну, чего ждем?
— И куда я пойду? — спрашивает вдруг Пурыженский, все так же не глядя ни на кого.
— А вы не идите, останьтесь тут. — Отец Сергий не замечает знаков, которые подает ему медсестра. — Оставайтесь. Майя Павловна вас простит.
Снова неяркий свет, вразнобой работают мониторы: на два удара сердца священника приходится три-четыре писательских. Оба прислушиваются к звукам, про себя отмечая моменты их совпадения.
— Об этом обо всем написать. — Пурыженский и правда дышит нехорошо.
— И напишете.
— Уже нет. Думаете, не понимаю? — Молчит, дышит. — Видели бы вы, как она старушку отогревала!
Плохи, говорит, дела его, безнадежны. Ничего-то он не напишет.
— А ненаписанного — не существует. Его как бы нет. Ясно вам?
Отцу Сергию это ясно вполне: он сам всем другим занятиям предпочитает чтение.
— Вот оно что, — равнодушно отзывается писатель. — А я представлял — то-другое, туристическая компания, песни… Стихов не сочиняете?
— С моей фамилией только стихи сочинять.
— А какая у вас фамилия?
— Тютчев.
Оба тихо смеются, впервые за эту ночь.
— Знаете, я давным-давно написал что-то вроде стихотворения… Когда расстался с одной компанией. Как раз туристической. Точнее, она со мной. — Отец Сергий лезет в тумбочку за тетрадкой, ждет, что Пурыженский попросит его почитать. — Я никому не показывал. — Еще ждет. — Почему вы молчите?
— Жду.
Надо читать, делать нечего.
По дому ходили босиком,
Были детьми своего времени,
Были сентиментальны,
Любили про солнышко лесное,
Сочувствовали однобоко,
Были хороши в несчастий, плохи в радости,
Много умели практического,
Знали, что такое фаза, умели собрать
Байдарку, палатку, крепко, надежно,
В Бога поначалу не верили,
Многое раздражало:
Про Исаака и Авраама,
Позолота в церкви,
Потом вдруг поверили,
Зажили почти праведно
Или же эмоций убавилось.
К чему я это рассказываю?
Рюкзаки еще были алюминиевые,
Дюралевые или, не знаю, титановые,
Легкие, очень удобные,
Переехать, перевезти тяжести,
Умели носить вещи, коробки, тяжести,
Помочь с переездом, с похоронами,
Съездить за справками, отстоять очередь,
Помогали до известной степени,
В той мере, которую считали правильной.
Доброта их была априорной,
Сама собой разумеющейся,
Но о людях они отзывались дурно,
Были детьми своего времени,
Любили Александра Грина,
Фильм «Сталкер», песни Высоцкого,
«Детей Арбата», передачу «Куклы»,
«Разговоры с Иосифом Бродским»,
Сейчас им ничего особо не нравится.
Какие из этого выводы?
Не пленяться объективными достоинствами,
Бояться сентиментальности,
Верить первоначальному впечатлению.
— Всё? — спрашивает Пурыженский после паузы. — В конце не хватает чего-то.
Священник берет ручку, добавляет к написанному:
Помнить: никто не имеет права
На любовь ближнего.
Вслух две последние строчки читать не стал.
Спал он недолго, но, видимо, крепко. Потому что, проснувшись и сообразив, где находится, замечает большие перемены — и в обстановке, и в освещении. Наступило утро, и верхний свет потушили. Кроме того, ширма придвинута вплотную к его кровати, и сквозь нее просвечивает агрегат, с шумом качающий воздух. Самое же плохое состоит в том, что у соседа изо рта торчат трубки, и он без сознания.