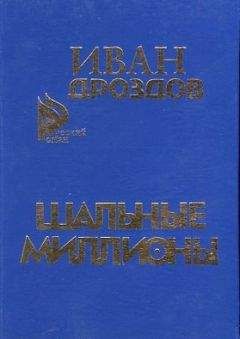— Мы сами во всем виноваты, — говорил Костя, включая камин и подвигая к нему кресло. Он любил вот так, поудобнее устроившись у камина, заводить с Анютой разговоры о политике, где у нее были самые поверхностные знания, и он упивался своим явным превосходством.
После таких разговоров, вставая по утрам и садясь за письменный стол, она долго не могла написать и строчки. Тушила настольную лампу и смотрела через стекла балкона на лес; из темной комнаты он даже в безлунье рисовался отчетливо: стояли в безмолвии сосны, липы, широкоплечие дубы и низкорослые, с жидкими стволами рябины. Природа навевала печаль, но и покой, так необходимый для творчества. Она задумала повесть, вначале писала быстро, легко, как она обычно и писала, но жизнь людей, которых она встречала, разговоры с Костей вносили сумятицу в ход ее мыслей; ей казалось, что все, что она пишет теперь и писала раньше, — не важно, не серьезно, это детский лепет девицы, не знающей жизни своего народа, копание в собственных мелких страстишках. Олег звонил, что повесть пошла, ее охотно раскупают. Но о чем она?.. «Слезы любви» — история ее несчастной любви, несостоявшейся жизни. Ей двадцать четыре года, а она не замужем. В станице и на хуторе таких называли «старая дева», «перестарок», — к ним относились настороженно. За что-то ее не берут же! Какой-то изъян в девке!.. «Изъян во мне? Но какой?..»
Включала свет, — писать, писать… Но строчки не давались. И тогда раздраженная, почти в слезах она заваливалась в постель и спала долго, часов до десяти.
Зазвонил телефон. В трубке бодро и весело звучал голос Старрока:
— Костя, ты?.. Привет, старик, привет. Старая карга окочурилась. Каково? А?
— У себя в кабинете?
— Нет, дома. Вышла из кабинета, держалась за сердце, покачивалась. Наш человек довел ее до машины, спросил: «Не случилось ли чего?» Она в страхе подняла руки: «Нет-нет, ничего не случилось. Все в порядке, все в порядке…» С этими словами села в машину. А ночью дала дуба. А? Как это тебе?.. Старрок хохотал как ребенок.
— Костя! Ты молчать умеешь? Главное — молчок, тишина. Ну, будь, — до встречи. Если будут заказы — гони всех к черту! Ты нужен для дел важных, государственных. Не уезжай из Питера, а уедешь — дай знать, где тебя искать. Через месяц-другой поедешь в Штаты. Изучай английский. Дело предстоит архиважное, как говаривал вождь мирового пролетариата. Да, чуть не забыл. Та девка, что помогала тебе, она знает…
— Ничего не знает. Я сказал ей, будем изымать музейную реликвию — какую-то диадему, а какую — я и сам не знаю. Не беспокойтесь. Тут все в порядке. За молчание она деньги получает.
Генерал повесил трубку. Костя отвалился на спинку кресла. Старрок не все доверял телефону, но Костя понял: старуха ушла из жизни и тайну несметных богатств унесла в могилу. Преступления таких масштабов редко раскрываются, время затягивает их непроницаемым мраком.
Обстоятельства складывались как нельзя лучше: старуха сошла со сцены, Старрок доволен, включил его в состав могущественной московско-питерской мафии, — он теперь и крышу имеет, и даже охрану. Старрок позаботится о его безопасности, вовлечет в другие дела, — и, может быть, более крупные, чем музейное, хотя, по совести говоря, более крупного дела подполковник не представлял. И, конечно же, он и впредь согласится только на такие дела, где у него будет возможность изымать народные ценности у преступников.
Костя успокоился, и это спокойствие передалось Анне. К ней стала возвращаться прежняя работоспособность. Вставала рано и писала до обеда. После обеда приходила преподавательница, и она занималась английским.
Костя решил произвести ревизию сокровищам и начал с тех, которые извлек из черной сумки. Днем, после завтрака, пошел в сарай и достал сверток из укрытия. В своей комнате развернул его, сгрудил в отдельную кучку золотые монеты. Их было много — сотни и сотни. Считая, вспомнил старуху, высохшую, как пустой гороховый стручок. Она тоже… считала. Как же человека сжигает страсть к золоту!
Костя в раздражении двинул кучу монет на край стола, ссыпал ее в мешок и бросил его за угол книжного шкафа.
Задумался. Мысленно искал пути возвращения ценностей государству, — с легким сердцем сделал бы это, но путей таких не находил. Всюду он видел людей, которым не верил, особенно, власть имущим. Наблюдал какую-то роковую закономерность: чем выше человек поднимался по служебной лестнице, тем он был подлее и лживее, — на ум тотчас же приходили Горбачев — артист среди подлецов, затем — Старрок… Представлял, какие циники и лукавцы прыгнули теперь в кресла министров, председателей банков, президентов компаний, ассоциаций. «Нет уж, фигушки! Вам я не дам и единого золотого!..»
Стал разбирать ювелирные изделия. Были тут украшения в замшевых и бархатных чехлах. И сами чехлы представляли художественную ценность, особенно запоры, застежки, крючки, остроумные крепления.
Не сразу удалось раскрыть один такой чехол. Осторожно вынул из него диадему, — женское головное украшение в форме полукороны. Легкое, как воздух, ажурное, как вологодские кружева. Посредине — большой темно-синий сапфир, кабошон — неграненый, выпукло отшлифованный камень, излучающий синее мерцание, по всему полю — бриллианты чистейшей воды, размеров разных. В свете, лившемся из окна, диадема сияла и переливалась, плыла, летела, точно эфирное, но живое существо…
Пытался вообразить мастеров, сотворивших это волшебство, — и не мог. Чудилось ему, что не люди грубыми руками творили затейливую вязь из золота, платины и камня — ангелы, живущие в облаках, сплели из синевы небес эту сказочную красоту.
Отложил на угол стола диадему, смотрел и смотрел, не в силах оторвать глаз, и слышал, как пульсирует кровь, толчками ударяет в виски. Предмет неодушевленный, — думалось невольно, — а кровь волнует. В нем сила таинственная, энергия труда мастеров, власть гения, который только и может этакое чудо сотворить.
Бережно опустил в свое гнездо диадему, аккуратно уложил в ряд все чехлы, отдельные украшения завернул в бархатные лоскутки, как и было в черной сумке, упаковал, связал… «Посмотрю в другой раз и решу: что же делать со всем этим богатством?»
В дверь постучали. Костя вздрогнул, отошел к окну.
— Да-да.
— Это я, хватит спать.
Вошла Анна, и не одна: с ней был молодой дядя с рыжей бородой и синими, по-детски яркими глазами — казак из Каслинской. Не смел ступить на ковер.
— Да проходите же, будьте как дома, вы же наш, каслинский. Я видел вас в церкви.
— Олег Суворин, художник-реставратор.
— Вы доски искали, столярку хотели заказать.
— Хотел, да теперь-то уж… Доски половые три тысячи стоят, столярка и того дороже — тридцать тысяч заломили. Таких-то денег я и в глаза не видел.
— В Саратов к архиепископу Пимену надо ехать. Он будто бы неплохой человек, — пусть деньги отпустит.
— Он уж мне давал.
С подносом, с пирогами, вареньем и чаем вошла Полина, поставила угощение на журнальный столик.
— Олег — мой старый друг, — заговорила Анна. — Он нас, старшеклассников, на восстановление церкви затаскивал. Мы там до потери сознания трудились.
— Еще тогда вы церковью занимались?
— Давно уж, лет десять.
У Кости явилась догадка: Анюта его пригласила, деньги хочет дать. Но спрашивать ни о чем не стал. Не хотел вмешиваться в ее дела.
Сидели у камина. Был сентябрь, ночи холодные, — Анюта часто включала камин.
— Рассказывай все по порядку, Костя пусть знает о наших делах.
Олег достал из кармана Анютину книжку, — в твердой обложке, с красивым рисунком и портретом автора. Подал Косте.
— Только что издана. Продается у нас на Волге.
— И как идет? — спросил Костя, листая книгу.
— Идет хорошо. В трех городах уже продали пятьдесят тысяч экземпляров.
Олег тронул лежавшую у его ног дорожную сумку.
— Вот гонорар, — и протянул Анне пачки денег.
— И что же вы предлагаете? — повернулся Костя к Олегу.
— Не я предлагаю, а издательство: заключить договор на повторные тиражи. Вот я и прилетел.
Мужики смотрели на Анюту со смешанным чувством восхищения и некоторой почтительной робости.
Острый, изобретательный ум Кости возводил ажурные сооружения планов: если в Поволжье книга так хорошо идет, то она так же может пойти в Москве, Питере, Челябинске и других городах. Ах я осел безмозглый! Рукопись лежит у меня в столе, а я еще никуда с ней не обращался. Завтра с утра поеду в город, найду частного издателя.
Анна, возвращая Олегу половину гонорара, сказала:
— Бери себе на жизнь и на церковь, а мне и впредь будешь посылать половину. Напишу тебе доверенность, — будешь моим издателем.
Радости ее не было предела: она имеет свои деньги, свои кровные, заработанные. И будет жить с достоинством.