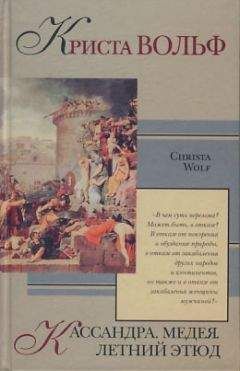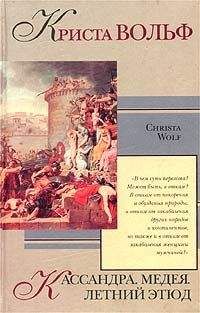По счастью, она своевременно перешла на слабости человеческой натуры. Нет, правда, не смотри на меня с таким укором. Но Криста Т. вовсе не смотрит на нее с укором, просто она в этот момент подумала, что мысль о слабости человеческой натуры очень идет кузине и что кузина прекрасно это сознает, а потому из всего ассортимента идей, и без того скудного, выбрала именно эту. Впрочем, перевалив через четверть века, кузина ничего не имеет против тех, кто и впредь намерен верить в добрые человеческие начала — или как это там у них называется, — право же, не имеет. Идеализм — кто из нас хоть раз в жизни не тосковал по нему? Знаешь, мы, живущие здесь, до ужаса материалистичны, ты это сразу унюхаешь, ты сморщишься, едва шагнув на порог.
Разве я морщилась? — спрашивает Криста Т. с удивлением.
Тут кузина заливается смехом, как уже заливалась раньше, а Юстус смотрит в их сторону, и Криста Т. понимает, почему эта кузина — его любимая. Тогда она признает, что морщилась, хотя и умалчивает причину, но и этого достаточно, чтобы в ознаменование достигнутого согласия выпить стаканчик виски, шотландского, on the rocks. Быть того не может, неужели ты первый раз в жизни пьешь виски, боже мой, сколько у тебя еще всего впереди! А наш-то брат уже мытый-перемытый, в семи водах…
Водах, повторяет Зигфрид, ты, детка, смотри не утони. Взамен он называет сорта водки, тут его познания поистине обширны и вызывают восхищение.
Но потом являются еще две тетки, принося с собой волну сострадания, и с их бесстыжих губ срываются злобные слова.
Террор! — восклицают они, поедая ореховые пирожные. Ах, бедные детки, они еще доведут вас до того, что вы не будете испытывать в ней ни малейшей потребности… Это в ком же, тетя Термина? Лицо тети — сплошной упрек, а изо рта у нее вырывается таинственный пароль: в свободе…
Кузина увлекает Кристу Т. на кухню. Родственников не выбирают, говорит она и начинает совать в складную сумку баночки со всевозможными пряностями. Это ты возьмешь с собой, у вас этого нет, а Юстус любит острое, и не ломайся, я его знаю. Или лучше подарить тебе бюстгальтер? Кстати, это его любимый сорт чая, он тебе покажет, как заваривать, это я его выучила. Пусть у вас все будет хорошо, я уступаю его тебе от всей души. Только навещайте нас иногда, ладно? И честно говори, если тебе что нужно, будешь стесняться, я рассержусь. Почему аморальные доходы Зигфрида не должны хоть немного скрашивать вашу высокоморальную жизнь?.. Когда малыш появится на свет, ты будешь получать бананы, это уж само собой…
А откуда ты знаешь, что я…
На это кузина может ответить лишь сострадательным взглядом. Дети малые, говорит она, ох вы, дети, дети…
Юстус нашел, что она очень хорошо держалась, но теперь им надо сыграть свадьбу. Только, пожалуйста, без зрителей, и никаких объявлений, никому. Служащая отдела регистрации нервничает, ей кажется, что ее лишь с трудом терпят, и она по возможности сокращает процедуру. Да, отвечают оба на ее вопрос, потом берут такси и называют шоферу новый ресторан на Сталин-аллее, где едят жаркое и пломбир. Меня при этом не было, но в течение дня, не знаю когда, Криста Т. должна была сказать мужу, что хороший любовный роман всегда кончается свадьбой. Возможно, они уже были к этому времени в своей пустой и просторной комнате, где стоял только широкий матрац, и настала минута осознать, что ощущение праздника вовсе не обязательно привязано к тому дню, когда его ожидаешь. Вечером они сидели в опере, рассказывает она, и настроение у них было вполне приемлемое, но в антракте им пришлось уйти — ей стало нехорошо. Он не может понять в чем дело. Лошадиный доктор — так она его называет — бесится от чувства собственной беспомощности, вот как выглядит их первая брачная ночь. На другой день ей приходится лечь в больницу — активизировалась старая болезнь, врач говорит, что все это из-за ребенка, но тот же ребенок может полностью исцелить ее. Одним словом, вундеркинд, говорит она Юстусу, который уже должен спешить на практику.
А ты будешь мне писать?
Но она не может ему писать, потому что у нее нет сил так напряженно думать о нем, все это она заносит в коричневую тетрадочку, а он, может быть, и по сей день не знает, почему никогда не получал от нее писем. Когда я вновь увидела ее, она лежала на своей койке в клинике «Шарите», наполовину пристыженная, наполовину раздосадованная, но, во всяком случае, замужняя, и собиралась произвести на свет ребенка. Она читала «Волшебную гору» Томаса Манна и силилась сама погрузиться в неразделенный мир волшебной горы, иначе мне просто не выдержать, сказала она.
Я не спросила, чего именно ей не выдержать. За семь лет их супружества они почти не разлучались, два-три письма Юстусу, которые так и остались неотправленными, он передал мне вместе с остальными ее бумагами. Они относятся к более позднему времени. Он не стал их читать, а передал мне, словно мне подобало прочесть их первой. Может, и в самом деле так. Я прочла их и нашла, что она стала трезвее. Потом я прочла их вторично и была потрясена собственной слепотой. Ибо внезапно, словно краска на старых картинах при определенном освещении, из старых писем отчетливо выступила ее робость. Мне хотелось бы спросить Юстуса, знал ли он, что она перед ним робеет. Но окажется, что он этого не знал, и я не стану его спрашивать и не стану дольше размышлять над вопросом, откуда взялась эта робость и зазывный подтекст ее писем, ибо верить, что чувство, да еще вдобавок такое сложное, как чувство, именуемое «любовью», всегда выглядит одинаково, может лишь тот, кто заимствует свои чувства из плохих романов, а приветствовать это никак нельзя. Очевидно, она за эти годы постепенно отвыкла считаться с собой, так, во всяком случае, звучат ее письма. В конце — я говорю про настоящий конец — уже и речи нет о том, что она, не желая причинить себе лишнюю боль, отказывается дать о себе весточку, которую где-то ждут. Она еще напишет два письма из больницы, те оба тоже адресованы детям.
С обещаниями, о которых ей известно, что она никогда их не выполнит.
Поскольку я внезапно обнаружила то, чего другие, возможно, в ней вообще не заметили, к примеру, ее робость, я вынуждена задать себе вопрос, чего я еще не увидела и уже никогда не смогу увидеть в ней, потому что мои глаза на это не настроены. Ибо видение мало зависит от принятого нами героического решения. Вот почему в поисках упущенного из виду я надумала еще раз побывать у нее в больнице, в то воскресенье, осенью того года, когда она справила свою свадьбу. У меня есть все основания повторить этот визит, потому что я ни разу не навестила ее, когда она действительно была больна. Это звучит самоупреком, так оно и есть на самом деле, но у меня были веские причины, как бывают они у каждого. Наиболее веская заключалась в том, что я не могла поверить в ее серьезность.
Был сентябрьский день, вот как сегодня, жаркий и в то же время ласковый. Направляясь от вокзала Фридрихштрассе вдоль Луизенштрассе, которая показалась мне бесконечно длинной, я сняла жакет и перекинула его через руку. Лишь на территории клиники, порядком поплутав, я догадалась взглянуть на небо. Как и сегодня, оно было затянуто легкой дымкой, и сегодня я невольно думаю то же, что подумала тогда или, вернее, не подумала, а почувствовала, не пытаясь облечь свое чувство в слова: я почувствовала острую боль, потому что эта блеклая, такая привычная голубизна, которая, казалось бы, нарочно создана для нас и только нам принадлежит, встречается уже на старинных полотнах, где я не воспринимаю ничего, кроме этой голубизны. Почувствовала возмущение от того, что и через сто лет после нас ее, безучастную и неизменную, снова будет порождать определенное время года, определенное освещение.
Эта мысль неприятно меня поразила, как поразили вдруг омерзительная краснота больничных корпусов и обнаженный звук моих шагов по истертым ступеням. Я уже предвидела, что так же неприятно поразит меня и ее вид. Вот она лежит на последней койке в длинном ряду, а по другую сторону прохода стоит ровно столько же коек, всего около двадцати. Нет, это было не место для свиданья после долгой разлуки, потому что, когда я увидела ее в постели, мне почудилось, будто она долго отсутствовала и очень за это время изменилась.
Наконец она накинула больничный халат и вышла со мной в коридор. Мы обе стояли у окна, я помню, мы говорили про соседку Кристы Т. по палате, трамвайную кондукторшу.
Они не понимают, что с ними происходит, рассказывала Криста Т., и мне захотелось, чтобы она проявляла большую нетерпимость, коль скоро ей не удалось сломить смирение молодой женщины, ее усталую покорность перед лицом страданий, которые причиняет ей муж. Мы ни минуты не сомневались, что она обязана предпринимать попытки, ибо чувствовали себя связанными обещанием, которого на самом деле никогда не давали, но которое тем не менее было посерьезней настоящей клятвы: помогать нужно всем, и безотлагательно. Потом ты видишь больную женщину, которой нельзя помочь, и чувствуешь себя клятвоотступником.