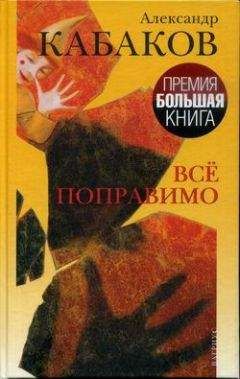Так они гуляли каждую субботу вечером, а иногда и в обычные дни — быстро сделав уроки, Мишка звонил Нине, коротко договаривались, он встречал ее где-нибудь возле школы, до которой идти было примерно одинаково и от ее, и от его дома, или за клубом. Каток за клубом в эту зиму закрыли из-за эпидемии кори и простуд, поэтому просто часа полтора ходили по темным улицам, пока оба не замерзали окончательно, тогда прятались в какой-нибудь подъезд и целовались недолго. Несколько раз днем в воскресенье уходили за проходную, гуляли в продуваемой ветром степи, иногда целовались и там.
А к Вальке больше не ходили ни разу, хотя деньги у Мишки были.
Вот это и изменилось после ее слов «я тебя люблю» — теперь Мишка даже представить себе не мог повторения того, что происходило ночью у Вальки. Он много думал о значении слов «я тебя люблю» — в основном пытаясь понять, есть ли любовь в нем самом — и ни к какому окончательному выводу не приходил. Единственное, до чего он додумался — любить Нину имело смысл, поскольку было очевидно, что красивее ее все равно никого нет. Он, естественно, не сравнивал ее с другими девчонками из класса, сравнивать с ними вообще было смешно — нет, он сравнивал ее с артистками, и получалось, что она красивее и всех артисток, включая ту, которая играла Джейн, и ту, которая играла в «Цирке», ее даже звали Любовь, она действительно была очень красивая, но Нина все-таки красивее. А раз Нина самая красивая, то Мишка, конечно, не мог ее не любить, тем более что она сама его любит. И можно было считать, что Мишке повезло, потому что он женится на Нине, а жены не у всех бывают красивыми, а у Мишки будет.
И как-то так получалось, что именно поэтому опять пойти к Вальке было невозможно.
Думая обо всем сразу, Мишка бродил по протоптанным на улицах дорожкам, замерз отчаянно и решительно свернул к клубу. Там, как обычно днем, было пусто, в полутемном вестибюле сидел дежурный старшина, у которого Мишка попросил разрешения позвонить домой. Мать сняла трубку, голос ее показался Мишке каким-то незнакомым, очень спокойным. Он сказал, что пойдет сидеть в читалку, мать не возражала, велела только прийти к возвращению отца с дежурства ужинать вместе. Она знала, что Мишка может просидеть в читалке весь день, и дала ему достаточно времени — до возвращения отца оставалось еще часа три.
В читалке он сразу попросил американские журналы, и старая библиотекарша Зинаида Федоровна быстро принесла ему стопку Popular Mechanics за весь прошлый год. Библиотека получала этот журнал, как технический, для офицеров, но никто, кроме Мишки, его никогда не брал, отец, когда Мишка старые экземпляры приносил домой, только пожимал плечами, английского языка он, конечно, не знал, только немецкий немного, но видел, что журнал глупый, «вроде «Техники — молодежи», только глупее». А Мишка, умея прочитать иногда одно из десяти, а иногда и одно на всю статью слово, журнал очень любил за мелкие черно-белые, очень старательно нарисованные, как бы выпуклые картинки, на которых была целая отдельная жизнь. Больше всего ему нравилась часто повторявшаяся и внутри номера, и из номера в номер такая картинка: мужчина в белой рубашке с закатанными рукавами, в отброшенном ветром на сторону галстуке едет в открытой американской машине, улыбаясь Мишке прямо в лицо, а над машиной в прыжке летит так же радостно скалящийся тигр. Что означала эта картинка, Мишка понять не мог, из подписи ему было знакомо только слово oil, то есть масло. Но никакого масла на картинке Мишка не видел, а видел нечто, напоминавшее ему и «Тарзана в Нью-Йорке», и музыку из «Серенады» — она словно звучала внутри картинки, и Мишка ощущал себя летящим в машине под эту музыку…
Мишка задумался. Он вспомнил, что дядя Лева Нехамкин обещал во время ближайших каникул взять его покататься на «газике» и поучиться управлять машиной, и стал мысленно проделывать все необходимое для того, чтобы тронуться с места, набрать скорость, затормозить… Он давно все это теоретически выучил по книге «Пособие для шофера 3-го класса» и теперь надеялся скоро применить в действительности. Но мысленное повторение последовательности шоферских действий оказалось непосильно для его сосредоточенности, он отвлекся и стал листать журналы дальше. Остановился он на картинке, на которой примерно тот же дядька, что мчался в машине под тигром — только уже не в галстуке, а в комбинезоне с нагрудником, — управлял длинными ручками какой-то маленькой машинки, ехавшей по траве. Понять в подписи Мишка не смог ни одного слова, но догадался, что машинка траву стрижет. Вся же картинка в целом напомнила ему картинку другую, из учебника «История СССР», на которой крестьянин Орловской губернии идет за сохой. Только дядька в журнале шел не по бескрайнему горбатому полю с волнистыми бороздами, а по небольшой лужайке, позади нее стоял дом, похожий на клуб, в котором сейчас сидел Мишка, — с тонкими колоннами и широким балконом, опирающимся на них, а рядом с домом на высоком шесте развевался флаг с полосами и квадратиком звезд, привычно вызывавший у Мишки усмешку, поскольку чаще всего Мишка видел этот флаг на картинках в «Крокодиле».
Впрочем, к «Крокодилу» у Мишки было особое отношение. С одной стороны, все, кого рисовали в этом журнале, ничего, кроме усмешки и презрения, не заслуживали — поджигатели войны в цилиндрах, коротких узких брюках и ботинках на толстой подошве; вредители, тянущие длинные руки-щупальца со спичками к бикфордову шнуру, уходящему под ограду советского завода, точно такую же, как та, которую Мишка видел каждый день; пузатые толстые расхитители, волокущие с колхозного поля снопы; пижоны в длинных широких галстуках и пиджаках почти до колен… С другой стороны, все они были нарисованы так здорово, были такие выпуклые и живые, что отчасти напоминали Мишке самые привлекательные картинки из Popular Mechanics, а отчасти рисунки из трофейных журналов мод, которые мать брала у тети Розы и которые Мишка тоже любил рассматривать: высокие мужчины в широких пальто с поясами и в шляпах с переломленными полями и женщины в узких длинных платьях и коротких жакетах с высокими и широкими плечами, в маленьких шляпках, похожих на пилотки…
Мишка закрыл последний журнал, сложил их все аккуратной стопкой, вежливо попрощался с Зинаидой Федоровной, снял с рогатой вешалки, стоявшей тут же, в читалке, пальто и принялся одеваться, чтобы идти домой. За окном читалки, завешенным сборчатой белой занавеской, уже синели поздние февральские сумерки.
Мишка не торопясь брел к дому. Мороз к вечеру ослабел, было похоже на начало оттепели. Мишка вспомнил, что февраль короткий и можно считать, что уже почти март, скоро конец четверти. Это его не сильно волновало, отметки исправлять ему было не нужно — везде пятерки. Но почему-то мысль о наступающем марте испортила ему настроение, а почему — он понять не мог. С ним сделалось что-то странное: его затрясло, хотя он совсем не замерз, и на минуту он почувствовал, что совсем не может дальше идти, ноги ослабели, стали ватными, он поскользнулся, оступился и едва не упал набок, в сугроб. Тут же его и затошнило, и он подумал, что, наверное, опять заболевает, расстроился еще больше, потому что болеть уже надоело, и, чтобы прийти в себя, стащил с головы шапку, что делать мать категорически запрещала. Холод тут же стиснул стриженую голову, и стало легче. Мишка постоял, надел шапку и решительно свернул в свой двор.
Во дворе снег лежал еще выше, стало уже совсем темно, и в синей тьме были видны только белый снег и черные контуры домов и сараев на фоне синего неба. Тем не менее Мишка сразу увидел, что возле подъезда его дома творится что-то странное — там толпились, двигались люди, человек десять, и оттуда шел негромкий шум голосов. Мишка побежал, оступился, провалился в снег, вылез и снова побежал.
Первого он увидел дядю Леву Нехамкина. Дядя Лева стоял у подъезда, обе двери в который были раскрыты, и держал в руках кобуру, обмотанную ремнем и портупеей, Мишка сразу узнал кобуру от отцовского «тэта» и увидел, что она пустая, а дядя Лева посмотрел на Мишку и не сразу его рассмотрел, а когда рассмотрел, то как-то странно улыбнулся, вернее, просто сморщился и сказал:
— Мать там… сейчас уже лучше… ты не ходи.
И Мишка никуда не пошел, а сел на заваленную снегом лавочку у подъезда и закрыл глаза, а когда открыл их, то увидел яркий свет над головой и понял, что он уже лежит дома, прямо в пальто на кровати. В комнате слышны были голоса, и он разобрал голос дяди Сени Квитковского, который отчетливо произнес:
— Какой, к черту, случай, когда в висок?
Мишка снова закрыл глаза, и свет погас.
Они с Киреевым сидели на бревнах и вяло, без счета, играли в ножички Мишкиным немецким серебристым ножиком. Лезвие глубоко входило в не высохшую еще землю.
— Поедешь в Москву, пойдешь в мавзолей, позыришь обоих, — в двадцатый раз как бы с завистью сказал Киреев.