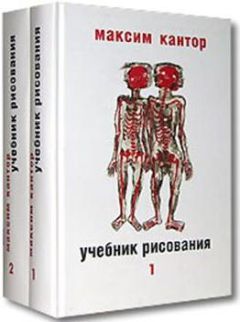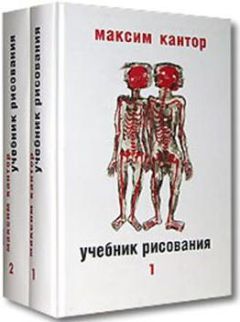— А я уеду в Париж, — сказал первый мальчик, — я буду жить на набережной Анатоля Франса, окнами на Сену. Вечером буду выходить на балкон и смотреть вниз, на реку. Я люблю седьмой аррондисман. По нему проходит бульвар Сен-Жермен, а это мой любимый бульвар. Представляешь, я буду смотреть на баржи на Сене, ходить в Лувр, гулять под каштанами и никогда уже не увижу ни нашего пустыря, ни пятидесятого отделения милиции, ни нашей школы. «Ротонда», кафе «Ля Куполь», мне все знакомо.
— Как же ты без нашего пустыря? Где гулять будешь?
— Уж найду место, — мальчик начинал говорить в шутку, но неожиданно разволновался, внезапно его охватила тоска, непонятная ему, щемящая сердце тоска по счастью. Он отчетливо понимал, что никуда и никогда с этого пустыря не денется и никакого счастья в его жизни не будет. Это было тем более странно, что у него не было никакого представления о счастье; он никогда не целовал девушку, не гулял под луной, не пил вина, не делал ничего такого, что отвечало бы взрослому знанию счастья, — но вдруг ему сделалось непереносимо тоскливо: он почувствовал, что никогда не будет счастлив на этом пустыре, он почувствовал, как проходит его жизнь, как она уходит от него каждую секунду, как бессмысленно текут душные летние дни. Он посмотрел по сторонам, и у него перехватило дыхание от бессилия. Он чувствовал, что в груди у него живет горе, но не мог выразить это — ни словами, ни даже ясными мыслями. Дело было не в истории и не в мировом духе, а в самой жизни, которая уходила прочь, и он вдруг это почувствовал. И поделиться таким горем было невозможно.
— Ты вот в Париж уедешь, — сказал другой мальчик, которого точно так же, как и первого, покоробила речь собеседника, он обиделся на слова «Париж», «бульвар Сен-Жермен». Эти слова рассказывали о таком мире, в котором его дом и маленькая комната, где он жил с мамой, делались вовсе жалкими, — ты уедешь в Париж и знать нас не будешь. А мы здесь останемся. Нас в Париж не позовут. Мы в другом месте живем. Знаешь, откуда Ванька родом? — Ванька был их одноклассник, с которым мальчики не особенно дружили, потому что Ванька не любил читать. — Знаешь, где его родители живут?
— Где?
— Деревня называется — Грязь. Он из этой деревни в Москву учиться приехал. У них там школы нет. Десять классов закончит и обратно поедет.
— Пусть остается, — великодушно сказал первый мальчик, — Москва большая.
Так шли они, огибая канавы и кучи мусора, и, сколько видел глаз, впереди тянулся пустырь, сухой и скучный.
Потом один мальчик спросил:
— Скажи, а за что ты смог бы отдать жизнь?
— Отдать жизнь? За разное, наверное.
— Я серьезно спрашиваю. За что?
— Да мало ли за что. Я много чего люблю.
— Так любишь, что жизнь отдашь?
— Ну не знаю. А ты за что?
— За свободу. Нет, вообще-то, не знаю. Наверное, все-таки за свободу.
— За чью?
Мальчик не мог ответить, не знал. Отдавать жизнь не хотелось. Вместо ответа он спросил:
— Слушай, я тебе рассказывал, как видел тетку с лисьей мордой?
— Как это?
— Шел из школы, темно уже, а впереди меня тетка на высоких каблуках. Когда я ее почти догнал, она ко мне как обернется, а лица у нее нет — нет лица!
— А что же есть?
— Морда как у лисы. Лисья морда рыжая.
— Врешь. Как же ты в темноте увидел?
— Она как раз под фонарем шла и повернулась. Резко так повернулась и залаяла.
— Как это?
— Как лисы лают. С подвывом.
— Прямо лиса?
— Шерстяная морда, рыжая с клыками.
— Может, она в лисьей шубе была? Или воротник из лисы. Напугать тебя захотела и залаяла.
— Летом, что ли, она шубу надела?
— Попугать решила. Некоторые тетки специально в шубы летом одеваются. А потом резко распахнут. А под шубой — голая. Чтобы завлечь.
— Нет, это была настоящая лиса. Понимаешь, лиса.
Мальчики шли некоторое время молча и думали теперь о лисе. День шел к закату, но жара не спадала.
— Давай на пруд сбегаем, — сказал один.
— Побежали.
— А может, она с карнавала шла — в маске? Может, пошутить хотела?
— Хорошие шутки. Я испугался, она меня загрызет.
— А может, это тебе мировой дух в лисьей шкуре явился?
— Зачем мировому духу лисой притворяться?
— Ну, Наполеоном дух уже был, Гитлером тоже был, а теперь в виде лисы явился.
— Зачем ему в виде лисы являться? — ученый спор был позади, и мальчики снова разговаривали, как обычные мальчики. — Зачем мировому духу лисья морда?
— Может, устал притворяться? Раньше притворялся, а теперь надоело. Может, это как раз его настоящее лицо?
— Скажешь тоже.
— А какое же у него лицо? Вот именно такое и есть. Морда клыкастая.
Они выбежали на Патриаршие пруды и, бросив портфели, присоединились к мальчишкам, носившимся вдоль пруда. Скоро Антон Травкин (а первого из мальчиков звали именно так) устал от бега; ему всегда быстро надоедала игра. В любой компании он очень скоро уставал — ему хотелось вернуться к книгам. Он вышел на Бронную улицу и, пройдя несколько шагов, увидел художника Струева. Он узнал его сразу: сестра показывала ему Струева издали, на выставках. Про Струева много рассказывала одноклассница Антона — Сонечка Татарникова; Струев был знакомым ее родителей. По их рассказам, Струев выходил совершенно особенным человеком. Особенный человек стоял посреди тротуара, скроив свою знаменитую гримасу: полуоткрытый рот, оскаленные желтые зубы. Неожиданно Струев приподнял пакеты, которые держал в руках, швырнул их в мусорный бак и плюнул на землю. Проклятая страна! — громко сказал он. И Антон, который только что доказывал своему товарищу то же самое, повторил за ним тихо: проклятая страна!
Нанося краски на холст, надлежит помнить, что рано или поздно они соединятся — хочет того живописец или нет — в нечто, что сами художники именуют карнацией. Карнация — это некий средний цвет картины, это, так сказать, общее впечатление о цвете, которое запоминает глаз. Карнация — это таинственный красочный сплав, который остается в памяти после просмотра полотна. Можно не помнить, что нарисовано на пейзаже Сезанна, и тем более не помнить, какого цвета дерево, а какого — дом, но запомнить при этом, какого цвета картина. Необъяснимо, каким образом красные, зеленые, охристые и синие краски, которые употребляет Сезанн (а он пользовался очень богатой палитрой), соединяются в нашей памяти в единую прохладную лиловую среду, в нечто напоминающее всеми цветовыми характеристиками камень. Этот прохладный цвет твердой скалы и есть карнация картин Сезанна. Достаточно сказать, что карнация Рембрандта мягко-золотая, Ватто сухая капустно-зеленая, Остаде — жарко-горчичная, Шардена — цвета воды в Сене, то есть зелено-охристая, а Матисса — цвета синего городского вечера. Иными словами, карнация — это убеждения и пристрастия, это человеческий опыт, выраженный цветом.
Пожалуй, карнация — это единственное, чему нельзя научить. Она индивидуальна, как отпечаток пальца. Невозможно стремиться создать ту или иную карнацию; она получается неизбежно, сама собой. Можно регулировать сочетания цветов, иными словами, можно управлять колоритом, но карнация возникает помимо колорита — иногда вопреки ему. Скажем, колорит картин Якоба Рейсдаля, скорее всего, бутылочно-зеленый — это цвет, который он употребляет чаще других, рисуя свои бесконечные чащи, и оттеняет его лиловым небом и серо-охристым песком. Сходный колорит у Гоббемы, вполне можно предположить, что они пользовались примерно одной палитрой. Однако существует огромная разница в карнации того и другого. Карнация Рейсдаля — тяжело-свинцовая; у Гоббемы она серебристая, легкая. Невозможно объяснить, как это достигается.
Иные склонны видеть в цветном грунте первый шаг к карнации. Действительно, цветной грунт сразу вводит художника в среду будущего произведения. Многие художники покрывают чистый холст неким средним тоном своей палитры — и потом словно вылавливают в нем отдельные яркие цвета. Так поступали испанцы, этот прием характерен для позднего маньеризма, например для Маньяско или Креспи. Широко известны жаркие терракотовые грунты, на их основе любил писать Рубенс. Иногда и сам материал играет роль среды. Например, светящаяся основа незалевкашенной доски, не покрытой левкасом (а она на Севере играла роль цветного грунта), уже сама по себе передает природу Голландии. Художник пишет пасмурный день, но сквозь холодный серый цвет светится теплое дерево, давая эффект движения теплого воздуха. Эль Греко делал прямо наоборот: он пользовался холодными темно-коричневыми грунтами (как правило, на основе умбры), что позволяло ему несколькими широкими мазками прозрачной серебристой краски создавать эффект грозового неба. Впрочем, подлинное мастерство позволяет художнику воспринимать и белый грунт как цвет среды и пространства — поэтому отсылка к цветным грунтам не кажется мне решающей для определения карнации.