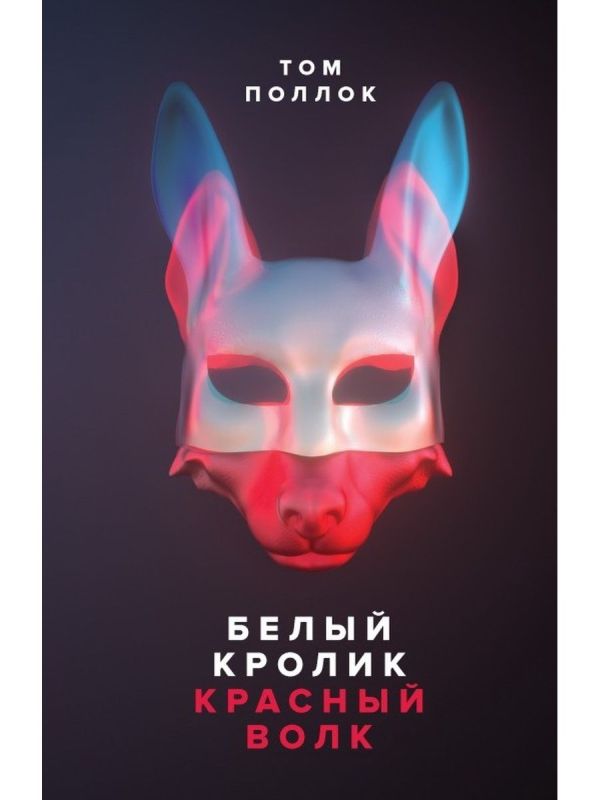— Привет, Питти, — сказала она. — Что интересует сегодня? Метеорология? Феноменология? Герпетология? Нам только что поступила книга о химическом составе самых смертоносных ядов в животном мире. Знаю, ты ведь любишь в среду почитать про мучительные смерти.
Мучительная смерть.
Ты мне напоминаешь Гёделя, и полюбуйся, как он кончил.
— А может, биография? — сказал я.
Я плюхнулся в кресло-мешок цвета кетчупа и раскрыл книгу в твердом переплете, которую достала мне Джули, многообещающе озаглавленную «Недоказуемое: гений и безумство Курта Гёделя». На внутренней стороне обложки красовалась черно-белая фотография: тощий, как кузнечик, мужчина в пиджаке и галстуке, чьи темные глаза глядели из-под очков с толстенными стеклами.
Я сидел долго. Этот взгляд приковал меня похлеще тягового луча. Вокруг его глаз легли глубокие тени, а самое главное, этот пристальный взгляд заставил меня почувствовать себя сообщником в какой-то ужасной тайне.
«Тощий, дерганый и гений, — услышал я слова доктора А. — Ты напоминаешь мне Гёделя».
— Ну да, — пробормотал я себе под нос. — Я себе тоже.
Обычно, когда я читаю о математике, я никуда не спешу. Я воображаю себя под теплым солнцем Древней Греции или среди гамбургского смога в эпоху Промышленной революции. Я смакую боль от их ранних неудач, насмешек оторванных от жизни стариков, не веривших в их теории, предвкушаю их грядущий триумф. И когда наконец пробивает их час, я читаю и перечитываю важные абзацы, запоминая каждую деталь, а затем закрываю глаза и проживаю его, этот накал страстей, когда герой подчеркивает последнюю строку в своем доказательстве и понимает, что он сделал это. Доказал, что существует множество бесконечностей или что пространство и время едины.
Не сегодня.
Чувствуя скребущую в животе тревогу, я пролистал страницы, пока не нашел то самое слово, которое искал: смерть.
Гедель умер в январе 1978 года в возрасте семидесяти одного года. Причиной смерти стала болезнь не тела, но ума. Он страдал от параноидального бреда и был убежден, что его пытаются отравить. Приготовление пищи он доверял только своей супруге Адель, и когда в конце 1977 года она попала в больницу, он заморил себя голодом и скончался.
— Вот черт, — пробормотал я себе под нос.
Врач, посещавший Гёделя в последние недели его жизни, позже рассказывал журналистам: «Мы пытались уговорить его поесть, но он отказывался наотрез. Мы заверяли его, что никто не хочет его отравить, но он не верил. Он снова и снова повторял, что тому нет никакой гарантии».
На момент кончины Гёдель весил всего шестьдесят пять фунтов[2].
Я закрыл книгу, чувствуя остывающий между лопаток пот. Доверял только своей супруге… Она была его аксиомой. И, лишившись ее, все доказательства и все теоремы, все, что он знал, жизнь, которую он построил вокруг нее, — все развалилось и погребло его под завалом.
Кое-что еще на странице привлекло мое внимание. Страдал от параноидального бреда…
«Ты мне напоминаешь чертова Гёделя», — сказал доктор А.
Холодок пробежал от позвоночника к волосам, как паук. Я снова открыл фотографию Гёделя. Вид у него был затравленный, словно он носил в себе страшную тайну. Но какую тайну? Что могло так надломить человека, чтобы он заморил себя голодом?
Я попытался вообразить, что он должен был чувствовать: муки голода, головокружение, рука, застывшая на полпути от тарелки ко рту, и челюсть, сжатая намертво в знак отказа. Что довело его до такого состояния?
Я нехотя открыл оглавление. Наибольшее количество ссылок вело на страницу с подзаголовком «Теоремы о неполноте: с. 8, 36, 141–146, 210». Я вернулся на страницу 141. Надпись жирными черными буквами гласила:
ДАННОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ — ЛОЖЬ.
— Хм. Парадокс лжеца, — пробормотал я.
Утверждение не может быть истинным, не будучи ложным, и оно не может быть ложным, не будучи истинным. Пожалуй, самый бородатый анекдот во всей философии. Мне это всегда казалось бесполезным лингвистическим трюком. К тому же «истина» вообще понятие неоднозначное.
Ниже на странице было еще одно, похожее предложение:
ДАННОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ НЕДОКАЗУЕМО.
В животе нервно заурчало. Смысл я, конечно, понял. Это утверждение действительно было недоказуемо, потому что доказательство его истинности доказало бы его ложность — и добро пожаловать на территорию парадоксов.
«Это просто игра слов», — сказал я себе. Просто хитроумный каламбур, основанный на расплывчатости языка, на котором мы ведем разговоры о кофе, котятах и ядерных войнах. С математикой такие условности не работают.
Но Гёдель был математиком, и у меня возникло тревожное предчувствие: я понял, к чему это ведет. Если бы вам удалось составить уравнение, которое докажет собственную недоказуемость, тогда быть беде, ведь, по сути, этим вы сломали бы саму математику. Я вспомнил затравленный взгляд Гёделя и дрожащими пальцами перевернул страницу.
Черт.
Уравнения змеились по всей странице. Сколько уже я учусь в этой школе, и все время эта книга пылилась здесь в библиотеке, выжидая момент, чтобы перевернуть мою вселенную.
Я перечитал всё пять, шесть, семь раз, вопреки всему надеясь найти какую-нибудь ошибку, оплошность, которую не замечали до меня сотни читателей, чьи жирные пальцы заляпали пожелтевшие страницы.
Я ничего не нашел.
Я дошел до последней строки главы, и — вот оно, ку де грас[3]:
Недоказуемая теорема.
Вот и все. Математика не абсолютна. Она не могла найти решение, а за пределами математики не существовало ничего более фундаментального и конкретного, что могло бы справиться с этой задачей.
Черт.
Черт черт черт черт черт.
Я почувствовал, как утрамбованный в желудке обед поднялся к горлу. Меня тошнило. Я сжал в руках книгу с такой силой, что хрустнули костяшки пальцев.
Я сверлил ее взглядом.
Недоказуемая теорема. Вопрос без ответа. Задача, над которой могут биться и я, и тысяча таких же, как я, и миллиард миллиардов суперкомпьютеров до тех пор, пока не потухнет солнце, и ни на шаг не приблизиться к решению.
«Если такая теорема существует, — спросил противный голос из глубины сознания, — как ты можешь быть уверен, что она всего одна?»
Я обмяк в кресле.
АРИА умерла.
Вся моя теория строилась на двух основных предпосылках. Что, во-первых, мои панические атаки были, по сути, математической проблемой; и, во-вторых (предположение настолько очевидное, что я даже не заметил, как допустил его, — а не это ли в итоге обязательно бьет под дых), что любая математическая задача может быть решена с помощью математики.
Гёдель проделал в моем втором предположении дыру таких размеров, что в нее спокойно вписался бы авианосец. Под маской любого уравнения может оказаться уродливая, неразрешимая, разрушающая жизнь западня.
Все тайные надежды, планы, которыми я делился с Ингрид, гулким эхом носились в коридорах моего сознания.
Если бы мы решили это уравнение… Пусть на это уйдут годы, но я бы узнал, наконец узнал, кончится это когда-нибудь или нет.
Книга выпала из онемевших пальцев, и я даже не слышал удара об пол.
Но внутренний голос не сдавался: возможно, с АРИА все будет по-другому. Возможно, на эту теорему все-таки есть ответ. Там все еще может быть доказательство. Но голос был слаб. Моя мечта трещала по швам, и как бы я ни хватался за обрывки, они не давались мне в руки. Я представил себя сгорбившимся над столом, изъеденным возрастом и сомнениями, год за годом продолжая вычисления, не зная, приблизился ли я к ответу.
Я опустил глаза в пол. Книга раскрылась при падении, и на меня снова взирали голодные глаза Гёделя.