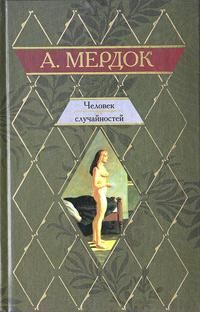– Страшно жаркое лето…
– Бутончик, не дразни меня.
– Время в моих руках, а ты в моих объятиях…
– Грейс, не надо. Ты хочешь, чтобы я разъярился, рассвирепел и бросился на тебя?
Неужели придется ждать до свадьбы? О Боже.
– Нет, Людвиг, дорогой. На следующей неделе родители собираются на уик-энд к Одморам.
– Прекрасно! Значит…
– Людвиг…
– Что, рыбка?
– Ты никогда не расскажешь об этом… не расскажешь Гарсу… обещаешь?
– Ну что ты, котенок, клянусь всем святым.
– Я вообще не хочу, чтобы ты с ним слишком часто разговаривал, он убивает все вокруг своей ненавистью.
– Обещаю, клубничка.
Через несколько минут они ехали, держась за руки, на верхнем этаже автобуса. Людвиг вспомнил, что хотел сказать Грейс: несмотря ни на что, ему надо проведать Дорину. Но поскольку он не вступился явно ни за Гарса, ни за Шарлотту, было бы глупо упоминать о Дорине. А Бог с ними! До уик-энда всего три дня! Ура-а-а!
* * *
– Иметь столько чудесных воспоминаний, как это прекрасно, – восторгалась Клер. – Ты достиг таких высот, и, конечно, так приятно это сознавать.
– Надеюсь, ты одаришь нас воспоминаниями? – подхватил Джордж.
– Ты наверняка посетил столько прославленных мест, ты был буквально везде. Я тебе завидую белой завистью, у тебя, несомненно, есть целые альбомы фотографий.
– Увы, никогда не увлекался фотографией, – ответил Мэтью.
– Чарльз разочарован тем, что ты не хочешь войти в состав комиссии, – сказал Джордж. – Но я тебя не осуждаю. Это все такие скучные вещи. А ты по праву заслужил отдых.
– Как ты собираешься проводить время? – поинтересовалась Клер. – Возможно, купишь дом и поместишь в нем ту прекрасную коллекцию китайского фарфора, о которой мы так много слышали?
– Еще не решил.
– Что бы ты ни планировал, мы готовы помочь, – сказала Клер. – Еще джину?
– Благодарю, но мне пора идти. Если будут новости от Шарлотты, дайте мне знать.
– Мы не слишком о ней беспокоимся, – сказал Джордж. – Это так на нее похоже, поверь мне, – исчезнуть без следа, оставив на прощание только загадочную записку. И лишь с одной целью – чтобы мы волновались. А сама, верно, сидит в ближайшем отеле.
– Не ожидала, что она способна на такую черствость, – сказала Клер.
– Ей самой сейчас нелегко, – возразил Джордж.
– Да, но хоть каплю великодушия…
– Со стороны Грейс?
– Со стороны Лотты.
– Значит, уговоры остаться в Вилле ни к чему бы не привели? – спросил Мэтью.
– Верно, но… – начал Джордж, поглядывая на жену. – Кажется, ее никто не уговаривал. Мне думается, после этого безумного завещания Шарлотта все равно отказалась бы. У нее есть пусть небольшая, но рента, она не останется без средств.
– Знаешь, я думала об этом, – вмешалась Клер. – Мама перед смертью просила позвать Древса… Древс – наш семейный адвокат… может быть, она хотела изменить завещание в ее пользу. Я уверена, что именно это она и хотела сделать. Бедная мамочка.
– Это мы бедные, – возразил Джордж. – Древс был так смущен, когда сообщал грустную весть о лишении наследства.
– Да, я помню. Плохая мамочка!
– Неблагодарность – последняя привилегия умирающих.
– Но ведь Грейс не собирается одна всем владеть? – предположил Мэтью. – Она наверняка разумно все разделит?
Муж и жена переглянулись.
– Должно быть, вы плохо знаете нашу Грейс, – сказала Клер. – Она так часто нас удивляет. Грейс заберет все себе и глазом не моргнув. Ей во всем везет. Она у нас любимица богов.
– Мне пора идти, – вновь сказал Мэтью.
– Грейс огорчится, что тебя не застала. Все эти дни она только о тебе и говорила, Людвиг должен порядочно ревновать.
– С удовольствием познакомлюсь с Людвигом.
– Он такой милый. Ты с ним встретишься на нашей вечеринке. Ты ведь придешь?
– Вызвать такси? – спросил Джордж.
– Нет, такой чудесный день, я прогуляюсь парком.
* * *
Парк приглашал отпраздновать красу юного лета. Затененные участки перемежались островками сочной зелени, топорщившими длинные перья некошеной травы. Воздух, напоенный ароматом цветов, просился в легкие. В просветах между деревьями виднелся памятник Альберту и розовел фасад Кенсингтонского дворца, а по длинным золотистым коридорам аллей прогуливалась ярко одетая публика. По обе стороны аллей росли скумпии и винные пальмы. Там, где они спускались к воде, важно расхаживали фламинго и бродили белоголовые лысухи. На куст села сойка и затрещала, покачивая голубым хвостом.
А где-то, думал Мэтью, в каком-то дешевом отеле сидит сейчас в душной комнате на чемодане Шарлотта, решительно настроенная встречать и отбивать удары судьбы. А еще он думал об Остине. И о себе.
Во время разговора с Каору в Киото все казалось ясным. Каору был опечален, но тем не менее поддержал Мэтью в его решении. В вопросах духа расстояние между правдой и ложью может быть тонким как волос, но только для избранных оно исчезает совершенно. А ведь Мэтью так долго мечтал о маленьком монастыре, о месте, которое ждет именно его, не такое, правда, величавое, как пустые троны, которыми воображение Джотто обставило рай, но зато предназначенное только ему. С точностью экономиста он высчитал, как именно будущее заплатит ему за настоящее. Дня ухода на пенсию ждал с нетерпением влюбленного, считающего минуты до свидания. Заранее наслаждался этой минутой, будто медом. Когда она наступит, он наконец обретет покой и жизнь начнется заново.
Но в его жизни, как и в жизни каждого человека, что-то пошло не так: вмешался злой гений, изменил какую-то мелочь, но этого хватило, чтобы и все остальное изменилось неузнаваемо. Все время делая какие-то движения, выдающие беспокойство, Мэтью сидел на полу в маленькой, уставленной бумажными ширмами комнатке Каору, который, как раз наоборот, сидел совершенно неподвижно со скрещенными ногами; и мало-помалу они приблизились к окончательным выводам. На дворе шел снег, солнце золотило склоны гор, темнеющих на фоне бледно-голубого неба. Вечнозеленая ветка извивалась на стене позади бритой головы Каору. Мэтью чувствовал, что ступни костенеют от холода и слишком долгого сидения на полу. Сквозняк покачивает ширмы. Прозвучал колокольчик. Каору вздохнул. Ничего обнадеживающего в этом вздохе не было. У человека только одна жизнь. И Мэтью уже прожил свою.
Что же принесла в результате эта жизнь, думал он. Такая, казалось, великолепная карьера, и вот ничего от нее не осталось. Исчезли надежды и амбиции, исчезло чувство собственной исключительности, а осталось вот что – кучка мусора. В то время как другие посвятили эти двадцать – тридцать лет искусству, семейной жизни, воспитанию детей, он не сделал, пожалуй, ничего путного, ничего, что осталось бы надолго. Ни одной из этих высоко ценимых и легко уловимых ценностей. Он не создал ничего великого в области искусства, он не совершил ни одного выдающегося поступка. Даже страстной любви и той не встретил. Заработал состояние, это бесспорно. Но нечто столь банальное разве можно считать достижением? «Владел большим состоянием», – однажды мрачно процитировал он перед Каору, а тот рассмеялся. Каору часто смеялся в самых неожиданных местах. Мэтью было не до смеха.
Преувеличением было бы сказать, что жизнь его утомляла. Оказывается, жизнь может быть интересной, захватывающей, наполненной делами государственной важности, но в конечном счете обернуться пустотой. Он видел вещи важные, вещи страшные. Видел нужду и войну, насилие, жестокость, несправедливость и голод. Был свидетелем ситуаций, в которых решалась человеческая жизнь. Однажды видел, как на Красной площади арестовывали демонстрантов, к ним вдруг подошел самый обыкновенный прохожий, который куда-то шел по своим делам, и его тоже арестовали. О судьбе некоторых из тех демонстрантов Мэтью знал. Одни до сих пор находятся в лагерях. Другие – в «психушках». Их жизни подрезаны под корень. Да, он часто становился свидетелем таких сцен, но всегда как посторонний, как чужестранец, пользующийся дипломатической неприкосновенностью, возвращающийся вечером в посольство, где полы устланы коврами, а на стенах красуются полотна Гейнсборо и Лоуренса. В сущности, он никогда не брал на себя таких обязательств, последствия которых разрушительны для налаженного образа жизни.
Вот так и оказался обманут злым гением. Жизнь, казавшаяся промежуточной, наполненной каким-то мусором, превратила его в того, кем он стал, – личность бесповоротно испорченную. Поселиться в Киото и жить в этом удивительном мире, образ которого он давно лелеял в душе, было бы фальшью. Он мог только притворяться, что ведет созерцательную жизнь, только играть в нее, изображая нечто похожее, но по сути глубоко лживое. Ненастоящее– потому что у человека только одна жизнь, и именно она его формирует. Межвременья не существует, и ты есть то, что ты думаешь и делаешь. Для него уже слишком поздно. Он слишком долго наслаждался ожиданием. Такова была горькая правда, которую он благодаря Каору наконец увидел, когда беспокойно поворачивался, сидя на циновке.