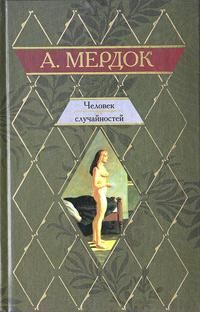Существовали, конечно, другие, так сказать, компромиссные решения, но Мэтью не был настроен их принять. Он мог бы снять квартирку в Киото и жить себе спокойно, а поскольку монастырь находился недалеко, мог бы рассуждать с учителями о буддизме и писать книжки о нем же. Мог бы заняться искусством или ремеслом, живописью, скажем, или керамикой. Именно так постигается мудрость. Или чем-нибудь более скромным. «Ты мог бы работать у нас в саду», – предложил Каору, сидевший все так же неподвижно, с бесстрастными глазами. Но суждено ли ему, Мэтью, откопать свою жемчужину? Навряд ли.
И еще есть Остин. Мэтью иногда представлял удивление брата, если бы тот узнал, что в какой-то очень далекой точке земного шара о нем столько думают. Для Мэтью некоторым утешением служила мысль, что беспокойство за брата не превратилось, хотя и могло, в единственное препятствие на пути к призванию. Можно ли идти с такой неразрешенной проблемой в эту тишину? Круто изменить жизнь на этом этапе из-за Остина выглядело бы обыкновеннейшим… идиотизмом. Однако сейчас, поскольку скорее всего не исполнится то, к чему он, Мэтью, стремился, отозвался голос долга, говорящий о самых забытых и некоторым образом более естественных делах. Мэтью осознавал, что если в нем самом Остин сидел как чужеродное и вредоносное тело, тем более для Остина он сам должен представлять субстанцию куда более ядовитую.
В определенном смысле, думал Мэтью, это все не имеет никакого обоснования и все проистекает исключительно из воображения самого Остина. В действительности он ничего плохого брату не причинял. Или все-таки причинял? Остин утверждает, что он бросал тогда камнями со скалы, но это неправда. Может, он просто переступал ногами, и от этого камешки начали катиться вниз. Вспомнил лавину камней и приятное чувство, прежде чем услышал крик Остина. Он рассмеялся, конечно, в первую минуту. Но можно ли за смех судить до конца жизни? Остальное основывалось тоже на пустоте, практически на пустоте, а может, наоборот, на всем. Получится ли у него поговорить когда-нибудь с братом об этом спокойно, без взаимного осуждения?
Когда приехал, сразу помчался к Остину, но это завершилось какой-то ужасающей нелепостью, все от глупых нервов. Чувство неизбежности поражения, неизбежности новой обиды было до дрожи знакомо. Тот, кто доводит до такого, заслуживает ненависти. С того дня Остин вежливо избегал его, его никогда не было дома, он всегда был занят, на открытках сообщал вполне правдоподобные поводы для невстречи, ни одно приглашение от Мэтью не принято. Придется изменить тактику, подумал Мэтью. Ситуация и сейчас уже похожа на крестовый поход. Какова ирония судьбы, если после выхода на пенсию главным в его жизни станет излечение младшего брата от сковывающей того ненависти. Но разве не великолепно, если бы этого удалось достичь? «Для Остина – это все. Для меня – пустота». Часто так и случается с выполнением того, что обязан выполнить, – исполнившему достается пустота.
Иногда Мэтью вспоминал о Мэвис Аргайл. Вспомнил о ней и сейчас – тень молодой девушки на фоне летних деревьев. Как же он изменился с тех пор, как же она сама должна была измениться. Двадцать лет не виделись. Он надеялся, что в круговращении лондонской общественной жизни рано или поздно встретит ее. Разные люди – иные и не знали, что он знаком с Мэвис, – говорили ему о ней и о Вальморане. Воспоминаниям Мэтью не хватало эмоциональной окраски, потому что, в сущности, он не сохранил почти никаких воспоминаний. Жизнь давно изгладила Мэвис из его памяти, и его чистая, романтическая любовь сосредоточилась вовсе не на женщинах. Иногда он задавал себе вопрос: «Что же нас соединяло в прошлом?» Что, собственно, тогда случилось, кто кого бросил и почему? Может быть, Мэвис оскорбило, что он недостаточно горячо за нее боролся, что она слишком легко уступила? Она была католичкой, а он квакером. Она чувствовала в себе религиозное призвание, и к этому он относился с уважением. Так ли уж сильно они любили друг друга, и если так, то какая же сила смогла их разлучить? Память о чувстве горечи сохранилась, но исчезло понимание, откуда взялось это чувство. Сейчас при встрече возникло бы чувство неловкости? Наверняка только на минуту. Конечно, он не напишет ей. К ней нельзя приближаться еще и потому, что рядом с ней Дорина. Его дружба с Бетти закончилась так глупо.
Между тем как же ему жить дальше? Какой-то тоской повеяло на него от деревьев, склоняющихся и темнеющих перед глазами. Лондон казался городом не столько даже грешным, сколько лишенным души, нечистым, искалеченным. Бог уже давно, еще во времена молодости Мэтью, покинул этот город, и Христос, который мог ждать его в Англии, исчез тоже, не стало его старого Учителя и Друга, покинул мир навсегда. Отталкивающе действовало на него теперь изображение Распятого, этого персонифицированного средоточия христианства. Как-то в Сингапуре одна девушка, знавшая, что он коллекционирует фарфор, показала ему китайскую вазу XIX века с репродукцией на ней рубенсовского «Распятого Христа». Он рассматривал этот курьез с изумлением, не веря собственным глазам. Такая тема на таком предмете – что за вульгарное варварство! Этот образ причинял ему боль и отталкивал от себя ужасной концентрацией страха, страдания и вины. Запад кладет под стекло микроскопа страдание, подумал он, Восток – смерть. Как бесконечно различны эти понятия, о чем, в сущности, всегда знали греки, этот глубинно и тайно восточный народ. Именно Греция, а не Израиль, стала его первым подлинным наставником.
Он лелеял надежду связаться с лондонскими последователями буддизма, но уже одна мысль, что это должно происходить в Лондоне, превращала проект в ничто. Он заранее знал – эти люди будут его только раздражать. Он был лишен духовного наследства, испорчен, предоставлен в своих поступках самому себе. Иногда ему казалось, что во время последнего разговора Каору приговорил его к смерти. И вот так, идя по аллее мимо деревьев, клонящихся под тяжестью листвы, он думал – не приближает ли его эта пустота к подлинному прозрению больше, чем все остальное.
– Мэтью! Мэтью, погоди!
Это была Грейс Тисборн, длинноногая, загорелая, стройная, как юная спартанка. Она подбежала к Мэтью и слегка хлопнула его по плечу, как при игре в салочки. На ней было короткое зеленое платьице в цветочки, прядки золотистых волос разметались вокруг задорного личика.
Мэтью улыбнулся ей, стараясь пересилить раздражение. Сейчас ему хотелось побыть наедине со своими мыслями, а не прогуливаться в обществе Грейс; тоска охватывала при мысли, что не меньше получаса уйдет на пустую болтовню с этой девчонкой. Ее любопытство, ее желание шутить и флиртовать, ее победная молодость – все это убивало его настроение. «Нет, – решил он, – не могу я и не буду с ней разговаривать».
– Прости, Грейс, – произнес он. – С удовольствием поговорил бы с тобой, но беда в том, что мне как раз сейчас надо сосредоточиться перед трусцой.
– Перед чем?
– Бег трусцой. Ты еще не слышала о таком? Аме-риканское изобретение. Особый вид бега для людей пожилого возраста с больным сердцем. Мне каждый день приходится посвящать этому не меньше получаса. Рекомендация врачей. О, мне уже пора, прошу прощения, до встречи.
И Мэтью действительно побежал, сначала быстро, потом все медленнее и медленнее. Бежал, не разбирая дороги, тяжело сопя, то по дорожкам, то по траве, между деревьями мелькало озеро, он убегал не только от Грейс, но и от себя, от мучительной пустоты и от гибели своих богов.
Добежал до Серпантина, до статуи Питера Пэна и плюхнулся обессиленный, с мучительным колотьем в боку. Это был один из храмов его детства, но никакой маленький Мэтью не ждал его здесь, а статуя, бросающая миру вызов пирамидой из бронзовых зверей и фей со стрекозиными крыльями, выглядела разве что забавно и старомодно. Детство осталось далеко позади, и не долетало к нему оттуда ни одного живого вздоха. Павильоны и фонтаны напоминали ему Китай, а не детство. Ярко раскрашенные утки плыли под сплетением зеленых ивовых ветвей, но для него все окружающее было серым, и сердце бухало, как колокол в пустом зале.
Кто-то неожиданно сел рядом. Грейс. Примчалась быстро и легко, как молодая антилопа. С ней прилетел запах цветов.
– Твои полчаса еще не прошли. Могу побегать с тобой.
– Нет, я уже не хочу бегать.
– Я очень люблю это место, а ты? Какие милые эти кролики и мышки, правда? Детишки их гладят уже столько десятилетий, вон как блестят. Ах, Мэтью, я так хочу с тобой поговорить. До сих пор мы виделись лишь мельком. А ты бы мог очень мне помочь. Ты был так добр ко мне, когда я была маленьким ребенком, я до сих пор помню, и ты такой умный, я тебе верю и восхищаюсь. Не сердишься, правда? Мы будем говорить, говорить бесконечно. Я чувствую, ты сможешь открыть мне правду обо мне самой, пусть даже и суровую. Приходи к нам пить чай! Придешь?