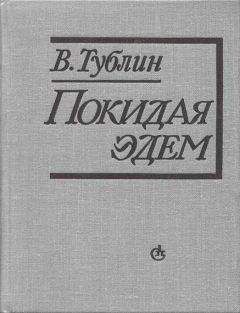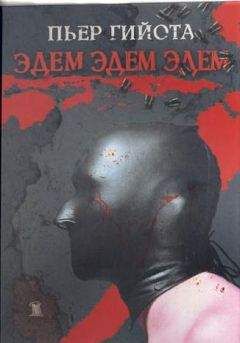Была непонятная осенняя безразличность, сонное спокойствие и даже ожидание событий и горьковатый, как запах миндаля, привкус неизбежности. После перерыва идти к главному инженеру.
«Кузьмин, — думал он и глядел в окно, которое, словно прозрачный экран, отделяло его от остального мира. — Кузьмин, Кузьмин…»
И вдруг что‑то вспыхнуло в нем, словно взорвалось, и он увидел свой дом и тетрадь, раскрытую на первой странице, обычную тетрадь в клеточку, где на обложке напечатана таблица умножения или меры веса и объема, увидел эту тетрадь и снова ясно и четко увидел слова, которые были написаны на этой странице, и, когда он увидел их, что‑то сжалось в нем, и он напрягся, как взведенный курок, и словно горело у него перед глазами, как некогда на стене горели предупреждающие огненные письмена. И когда, глядя в окно, он повторял дальше: «Кузьмин, ах, Кузьмин…» — он все видел перед собой эти слова, и голос его становился все тверже и тверже.
Кузьмин был тверд и вовсе не собирался туда идти…
Дверь открывалась и закрывалась, серая и ничем не примечательная, каждое движение ее сопровождалось скрипом. Было так: сначала раздавался скрип, вырывался пар, затем просвет, появившийся было, исчезал, и все это сопровождалось ударом, словно паровой молот опускался на сваю. И между этими звуками — медленным ржавым скрипом и ударом парового молота — вырывавшиеся клубы пара то выплевывали, то слизывали подошедшего вплотную к двери человека, словно внутри то появлялся, то исчезал вакуум, и так продолжалось все время, час за часом и день за днем, в чем каждый мог убедиться, имей он достаточно времени, чтобы простоять, наблюдая это, день или два.
Вот слизнуло еще одну неосторожно приблизившуюся фигуру: человек растворился в белом облаке и очутился внутри, где серое оборачивалось черным. Черный плюш, натянутый поверх плотно пригнанных досок, непроглядно черная темнота и легкое золотисто‑зеленоватое мерцание подсветки, мерцание, становившееся золотистым после того, как оно пробивалось сквозь бутылки с коньяком, или зеленоватым — через шампанское, а посреди этого мерцания или, точнее, среди него, словно окруженное нимбом, белело полное женское лицо с жесткими светлыми глазами.
Черная темнота. Однако светлые жесткие глаза, чуть подведенные синим в веках, взглянув, узнают едва различимое, скорее угадываемое лицо в длинных продольных морщинах. «Катя!» — говорит он, но это слово не является необходимым, так же как и поднятые главным инженером проекта Кузьминым растопыренные пальцы — указательный и средний; едва завидев это лицо, красное при обычном свете и бесцветное здесь, полная белая рука уже потянулась точным движением к одной из подсвеченных бутылок. И в то время как Кузьмин еще только утверждается возле стойки, обитой черным пластиком, на высоком, тоже черном табурете, перед ним стоит уже высокий, расширяющийся кверху двухсотграммовый стакан, и он успевает только заметить бесшумное исчезновение красивой полной руки.
Его рука, большая, поросшая черным жестким волосом, нетерпеливым, несколько судорожным движением берет стакан, привычно угадывая сквозь прохладную гладкость стекла силу взрыва, скрытую в янтарной переливающейся жидкости…
Он не хотел сюда идти в перерыв. Не хотел, и не собирался, и не думал даже, а если бы и подумал, то отверг бы еще пятнадцать минут назад. Ему даже в голову не могло прийти, что почти тут же ему придется это делать, придется бежать сюда, чтобы унять грызущую боль, бежать, мысленно зажимая рукой то место, где изнутри чьи‑то челюсти, очнувшись, начали грызть, и когти, безжалостно и конвульсивно сжимаясь, вонзились в его истерзанные внутренности. Бежать, чтобы трясущейся рукой одним махом влить туда, в недоступную взору темноту, стакан солнечной жидкости и, влив, сидеть, ожидая ответа, удара тепловой волны, которая сняла бы боль и напряжение.
Еще за минуту до звонка, еще за несколько мгновений даже до того, как прозвенел звонок, — перерыв, перерыв, — он не помнил вовсе ни о серой невзрачной двери, ни о боли, которой не было, ни о чем он не думал, кроме дела, он возвращался в свой кабинет из кабинета главного инженера института, он возвращался оттуда довольный своею решительной непреклонностью, своей победой, не без борьбы победой, довольный своею выдержкой и хладнокровием, всем своим поведением, но более всего тем, что было наконец сказано: попросите ко мне Блинова. И срочно! Да, он был доволен, к этому были все основания. И, возвращаясь к себе и подойдя к двери, обитой коричневым дерматином, он был как бы по инерции полон жажды деятельности и не собирался отвлекаться от дел даже в эти сорок пять минут перерыва. И рука его, взявшаяся уже за ручку двери, потянула — вот когда это случилось опять, второй раз за сегодняшний день, едва еще дошедший до половины. Что‑то дрогнуло в нем, и он почувствовал боль, которая пронизала его, словно в живот всадили трехгранный штык, вонзили и повернули. Коридор и стены поплыли у него перед глазами, коридор, и стены, и дверь с ее коричневым дерматином. Штык входил все глубже и там, внутри, поворачивался, липкий пот потек по лицу так, словно над ним выжали губку с холодной соленой водой, и единственным спасением казалась ручка двери, в которую он вцепился изо всех сил. Спасение… но его не было и не было, и уже звенел звонок: перерыв, перерыв. Звон этот оглушал его. Все это нахлынуло на него разом, подмяло, завертело. И вот тут‑то, в поисках спасения, а может быть, забвения, убежища или, на худой конец, временного перерыва, он и увидал перед собой эту лазейку, щель — серую и неприметную дверь.
Дверь была прямо перед Зыкиным на расстоянии десяти шагов.
С закрытыми глазами он, если хотел, мог не раз и не два представить себе весь путь по недоступному для него пространству, от которого его отделял какой‑нибудь десяток шагов. Сначала через первую дверь, внешнюю, по вестибюлю с камином, затем подняться двумя пролетами выше… И тут, даже в мысленно совершаемом им пути, его шаги становились все неувереннее и неувереннее. Потому что с того самого мгновения, как огромная массивная наружная дверь, бесшумно отворяясь, пропускала его внутрь, он ничего не мог с собой поделать: при одной мысли о том, что ждет его впереди, что‑то холодело в нем, и так было каждый раз. Да, сколько раз он ни входил бы в этот вестибюль, сколько ни проходил бы мимо камина, уже давно лишенного возможности обогреть кого бы то ни было, ему все равно предстояло подниматься мимо витражей, похожих на сказку. И тут он всегда с острым и неизъяснимым чувством не то стыда, не то вины, а может быть, и ярости вспоминал свой дом. Свою лестницу, узкую и грязную, с неистребимым, едким, все забивающим запахом кошачьей, да и не только кошачьей, мочи; лестницу, на которую выходила их дверь. Дверь их квартиры, всю в язвах звонков и разноцветных жилах проводов, и саму квартиру, в которой они с матерью занимали четырнадцатиметровую узкую комнату сразу же за кухней, дверь в дверь с уборной, комнату, едва вмещавшую кровать, диван, стол и шифоньер. Комнату в огромной квартире, тянувшейся не только через весь дом, как это было на самом деле, но и — как это казалось им — через весь город; в квартире с коридорами, извилистыми и глубокими, как норы, с поворотами, боковыми ходами, ответвлениями, тупиками, двумя туалетами и огромной, как рыночная площадь, кухней. Это была квартира, в разных концах которой жили люди, едва узнававшие друг друга при встрече, где по стенам висели разобранные еще до войны велосипеды и корыта, покрытые темной окисью; квартира с ванной, которая служила кладовой, с графиком уборок, висевшим на зеленой стене кухни, с митингами во время разноски общественных денег на оплату трех лампочек, освещавших — если можно так сказать — коридоры, с личными счетчиками и переплетением проводов, тянущихся к персональным звонкам на двери.
И, вспоминая об этой квартире, он вздрагивал каждый раз, и каждый раз, проскользнув в бесшумно раскрывшуюся и закрывшуюся за ним дверь, он останавливался, оробев, в вестибюле, и снова ему было семь лет, и что‑то, холодея, обмирало внутри, и он спрашивал чужим, не своим и неизвестно кому принадлежавшим голосом, тихим‑тихим настолько, что его и ему‑то самому едва было впору расслышать: «А ты… ты взаправду здесь живешь?» А его подружка Эля, в школе сидевшая на одной с ним парте, смотрела на него своими огромными глазами, взгляд которых не был тогда еще ни насмешливым, ни недоверчивым, и, потягивая за рукав, говорила: «Ну идем же, идем», — а он так бы и остался здесь, если бы только это было можно. А когда они поднимались по лестнице, широкой и чистой, мимо огромных окон, из которых лился волшебный свет сквозь стеклянные цветы, все это казалось ему таким прекрасным, что он остановился, пораженный, он стоял в некотором даже отупении, когда Эля подошла к единственному звонку на двери и позвонила.