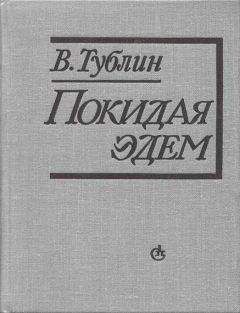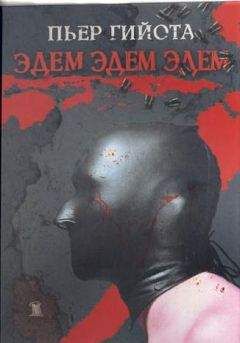Вот и сейчас он вертел в руках пружину и боролся сам с собой, потому что во рту у него было мерзко, голова гудела, и весь он был как выпотрошенная рыба, и хотелось ему одного: чтобы все оставили его в покое хотя бы на час, потому что вчера вечером они, конечно, опять перебрали и в голове у него что‑то пульсировало и взрывалось. А тут еще этот всезнайка Гурвич со своей пружиной, как будто он, Модест, сам уже не понял без всяких там Гурвичей что к чему, и он хотел уже сунуть эту пружину Гурвичу и посмотреть, как он будет три часа копаться. Но тут он скосил глаза и увидел напряженный взгляд и твердо поджатые губы, и в его разбитой, взрывающейся голове что‑то вспыхнуло… Хотя он не мог бы поклясться, было это или нет, так давно это было.
Он увидел какой‑то солнечный день и себя — тогда он еще не был женат и не «позволял» себе, и все, думал он, будет иначе. И Томка — неужели эта самая? — прыгала в воду в красном купальнике, и что‑то кричала из воды, и швыряла в него и Кольку пригоршни брызг… И что‑то горькое — горше вчерашней выпитой водки — поднялось ко рту, и он сказал, отводя взгляд: «Ладно, ладно, оставьте меня, разберусь».
Но то ли он сказал это слишком тихо, то ли слишком громко говорил лохматый, легко возбудимый Гурвич с туговатым на ухо Фролом Петровичем, только никто не отреагировал на его слова, а он стоял с пружиной в руке и думал о том, что не потому он боится этих давних воспоминаний, что жалеет о чем‑то, а потому, что эти воспоминания были не только бесполезны, но и вредны ему. Все уже прошло, и ничего уже нельзя было изменить в его судьбе, такой, он считал, загубленной и такой неудачной, что, право же, если бы нашелся человек, кому бы он мог высказать все, то такой человек, наверное, понял бы, что ничего другого, кроме как снова и снова «позволять» себе, у него не остается для поддержания гордости и веры в себя. А если не гордость и не вера, то что же ему оставалось? В чем он мог искать опору, чтобы ходить гордо и чувствовать себя человеком, — ведь не в той женщине, которую он уже давно не любил и которая уже давно не любила его. И — увы — не в детях, которых он так любил, но которые были еще слишком малы и глупы и не способны оценить его золотые руки, его мастерство, понять, как нужно ему чье‑то искреннее восхищение, или удивление, или восторг, а если не это, то хотя бы просто внимание, как оно нужно любому артисту, — а кто же он был, как не артист, в своем деле, конечно.
Да, он себя не кем иным, как артистом, и не считал — и был прав. И, может быть, горше всего ему были именно такие минуты. Как было бы, наверное, обидно приме, которую затолкали в толпу, за кулисы, в задние ряды кордебалета, где не нужно особое, ни на чье не похожее мастерство, а только ремесло и синхронность.
Вот что он чувствовал и думал, может быть, и не такими словами, но так, в то время как Гурвич бегал вокруг машины, а Фрол Петрович мотал лобастой головой и долдонил: «Тут только Антипов может разобраться». И снова: «Только Антипов». И дальше он сказал: «Зови, Анатольевна, Антипова, он при этих машинах родился, он один и разбирается в них». Похоже, он собирался бубнить так до конца смены, уже не слушая, что говорит ему Гурвич, и где же ему было услышать то, что сказал он, Модест. А он думал, что если бы хоть кто‑нибудь сказал ему хоть раз — ну вот хотя бы, как этот старый хрыч толкует сейчас про Антипова, — хоть кто‑нибудь, ну хотя бы Томка или любой другой, чье слово значило бы для него больше, чем грамоты, что вручали ему время от времени, если бы кто сказал ему: «Нет, Модест, кроме тебя тут, пожалуй, никто не разберется», — разве он стоял бы тут истуканом, а не показал бы класс? Как тот, один‑единственный раз, когда приехали англичане устанавливать свои полуавтоматы фирмы «монк» и он утер нос всем этим наладчикам в их фирменных комбинезонах. Да и то потому лишь, что понял: никто в это не поверит, если он не сделает, не совершит это на глазах у всех. Что он и сделал, наладил огромную махину на двое суток раньше, чем англичане.
И вот здесь он почувствовал прикосновение. Он весь дернулся и оглянулся — и снова натолкнулся на твердый взгляд. Нет, еще за мгновение до того, как он почувствовал прикосновение, он понял и даже спиной ощутил, что она все еще смотрит на него. А когда он обернулся и встретил ее взгляд, то опять показалось ему, что это уже было, но когда и где — он не помнил. Может быть, так она смотрела, подумал он, в безвозвратно прошедшие времена, когда, смеясь, бросала в него пригоршни блестящей воды. Но теперь‑то она смотрела, в этом не было сомнений, значит, мог он предположить, что это уже случалось однажды. А она, тронув его за рукав, сказала: «Модест… сделай…» Сказала так тихо, что едва шевельнулись ее плотно сжатые, напряженно сомкнутые губы, которые давно уже утратили и розовый цвет, и припухлость пятнадцати, шестнадцати, семнадцати лет; так тихо, что он не услышал — услышать этого было нельзя, — а скорее увидел, догадался, сам произнес за нее эти два слова. И тут что‑то дрогнуло в нем. Где‑то там, в самой глубине, где, как он думал, уже и нет ничего, оттого что все живое там было давно уже выжжено, вытравлено спиртом и той мутью, густым и плотным илом, что оседал и оседал в его душе день за днем все эти последние десять, пятнадцать и двадцать лет. Но, значит, он все же был не прав, и не все было вытравлено и занесено, а может быть, в человеке вообще трудно вытравить все хорошее, доброе, в чем он так всегда нуждается, до конца.
Да, что‑то в нем дрогнуло, что бы это ни было, и, когда он почувствовал это — с удивлением, близким к испугу, с недоверием и странной, непонятной ему самому радостью, — он вздохнул и даже как‑то всхлипнул, набрав в легкие воздух, и зажмурился. Такое происходило с ним только в самом тяжелом запое, в мгновения, когда он трясущейся, непослушной рукой тянул ко рту последнюю, давно уже ненужную ему рюмку, перед тем как отключиться, впасть в немое, темное забытье, исчезнуть и умереть. Да, сейчас, когда он был трезв, все точно так же поплыло, а потом исчезло, словно провалилось, но разница была в том, что мгновенье спустя, когда он открыл глаза, все снова вернулось — цех, люди, вертящиеся, чавкающие, ненасытные машины. И губы, которые еще, казалось, не переставали шевелиться, и слова, которые еще не исчезли в ровном и четком шуме работающих станков, и Гурвич, который замер на бегу, смешно подняв руки, словно бегун, закончивший дистанцию. И тут же был он сам, Модест, он сам тоже проглядывался со стороны в то мгновение, когда вдруг закрыл и открыл глаза. И все это вместе взятое для стороннего взгляда не заняло и минуты — для стороннего, но не для него. А его — его словно в воду окунули, причем дважды, как в сказках, — сначала в мертвую, чтобы все срослось, держалось плотно, а потом в живую, чтобы душа вернулась в тело. И она вернулась, душа. Модест почувствовал ее возвращение: сквозь головную боль, сквозь мерзкий вкус во рту, сквозь шум и грохот его душа вернулась — робко, может быть, даже нехотя, может быть, со стыдом, может, ненадолго… И тут он показал ей — Томке? своей вернувшейся душе?.. самому ли себе или сразу всем, всему свету? — что он еще жив, Модест, что он еще дышит. А пока он дышит, нет такой человеком изобретенной и им же из металла изготовленной вещи, в которой он, Модест, не мог бы разобраться и сделать это в любое время суток, днем или ночью, пьяным или трезвым.
А уж про эти старые крутящиеся куски железа, изготовленные до войны, до революции, до нашего века, и говорить нечего. Стоило ему только захотеть и сбросить с захламленной души лень и мусор, как вновь приобретал он способность на слух определять все, что в такой машине происходило, словно он сам был машиной, — и ничьих советов ему не требовалось. Тем более Гурвича. И даже Фрола Петровича. И даже самого Антипова. Никто ему не был нужен, и если бы дошло дело до того, он разобрал бы сейчас эту машину с закрытыми глазами. Так что не удивительно, что Гурвич получил от него под зад, а сам он через несколько минут уже погрузился весь в металлическое чрево и исчез там, как Иона. А Гурвич и Фрол Петрович в недоумении отправились обратно к «Интерлокам», и не понять им было, что за черт вселился в Модеста и с чего он вдруг заорал на них, словно пчела его ужалила. Но и в самом непонимании их было признание прав Модеста на этот крик: то был Модест, до которого им всем, как это ни горько было признавать, было далеко, как до неба, хотя каждый из них был механиком хоть куда.
А он, Модест, свистел и напевал, и его свист и фальшивое пение, натыкаясь на железные бока машины, глохли, становились неслышными, исчезали. Но ему‑то было плевать, он пел, он свистел для себя. И одного только он хотел: в тот момент, когда скажет: «Пускай» и машина снова оживет и зачавкает, сматывая с катушек бесконечные тонкие нити, чтобы, прожевав их, выпустить из железной утробы круглый рукав полотна, — чтобы в этот момент, вытирая с равнодушным видом замасленные руки, он снова встретил этот примерещившийся ему издалека взгляд. И пусть она не скажет ему больше ничего, пусть не разомкнет губ, пусть только посмотрит на него теми, не сегодняшними глазами — вот и все, что надо ему. Это и будет ему наградой — ведь большей награды он и не хочет, да и вообще не надо ему наград. Брызги сверкали на солнце, и вода, завихряясь, плескалась вокруг ее ног, и мокрый красный купальник обтягивал ее так, что он даже сейчас с тайным чувством восторга, как и тогда, мог вспомнить, как он глядел на ее груди, смотрел, отворачивался и снова смотрел, — ведь это все было, это все жило в нем. И уже одно то, что она помогла ему это вспомнить, было такой наградой, что других и не надо — лишь взгляд и воспоминание. И, свистя и напевая что‑то без мотива и без слов, он мысленно говорил: «Томка… Томка…» И лицо у него было таким, какое бывает у юноши, впервые почувствовавшего толчок в сердце.