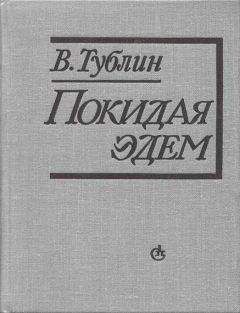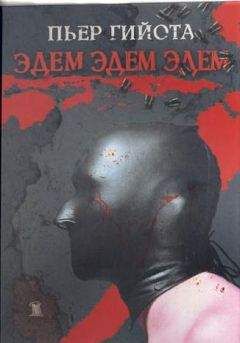И ночью, когда она дома, когда она лежит у окна на жесткой своей постели и видит шкаф, отгородивший угол комнаты, где храпит отчим, и слышит, как в другом углу на диване ворочается и говорит во сне что‑то Ларка, Лариса, сестра.
Люда лежит, и сон не идет, и прикладывает ледяные ладони то к пылающему лбу, то к груди, и снова: ну почему же все так случилось, и сколько это можно еще выдержать, и лучше бы ей умереть, не дожив до завтрашнего дня, когда все начнется сначала, и скорее бы он пришел, этот завтрашний день, когда начнется все опять.
Она лежит в темноте. Огромная коммунальная квартира полна неясных звуков, по улице, рыча, проходят грузовики, заставляя дом вздрагивать, и дрожат, позванивая, стекла, и ледяные ладони прижимаются к груди, где так больно, и с каждым ударом все больней, но и сладостно, и все сладостней, и снова больней, и она начинает кружиться в каком‑то красочном мире. Может быть, она уже умерла, и музыка играет, и в музыке она слышит все те же «почему‑почему‑почему», и она спрашивает себя: «Это и есть любовь, да?»
И в темноте, открыты твои глаза или закрыты, ты видишь его, ты видишь узкое лицо с маленькими, глубоко посаженными глазами и слышишь его голос: «Да, Люда, конечно, Люда, да, да, пожалуйста», — и тут уже горечь становится непереносимой, и ты хочешь только одного — умереть. Да, только умереть, потому что вот он, ответ на твои «почему». Вот он, рядом, и ты близко, руку протянуть, и все же ты так далеко, как если бы на другом конце света, и остается только — умереть. Она не верит в бога, она не верит в чудеса, но если бы, если бы это могло быть, если бы существовали на свете чудеса и можно было сказать без слов то, что хочешь, передать то, что чувствуешь, — разве могло бы это продолжаться без конца? Разве имеет право один человек так мучить другого? Ведь ей проще умереть. Вот подойди он к ней и скажи: «Умри!» — и все. Все, все, она согласна на все, только бы однажды было так — прикосновение, и его руки, его ладони легли бы ей на плечи — и умереть, тут же, без единого слова, исчезнуть, и как хорошо…
Пинг‑понг, пинг‑понг…
Белый целлулоидный шарик взлетает, и падает, и снова взлетает. Так и она — надеется, и теряет надежду, и снова ее обретает, чтобы тут же потерять.
Почему он не придет и не положит ей руки на плечи?
Перерыв, перерыв… звонок прозвенел сразу вслед за словами: «Вас просит к себе главный инженер». И тут же зазвучали в полную силу голоса и загрохотали отодвинутые стулья — перерыв. Спины распрямляются, хрустят суставы, гул и грохот, шарканье ног, скрип открываемых и захлопывающихся дверей. Перерыв. Но Блинов еще сидит на своем месте, в правой руке карандаш 2Н, а на карандашной кальке — чертеж; он только что закончил этот чертеж — «Проект благоустройства площадки второго подъема». И перед тем как отколоть его, вытащить из мягкой древесины красные, зеленые и желтые кнопки, свернуть его трубочкой и передать чертежнице для калькировки, он снова и снова смотрит на матовую поверхность, рассеченную во всех направлениях толстыми и тонкими линиями. Он вглядывается в толстые и тонкие линии, словно пытаясь разглядеть что‑то сверх того, что открывается взгляду, но способность к трансформации, к перевоплощению сегодня оставила его. Что, правда, все же не исключило проникновения чисто внешнего, как бы с высоты птичьего полета, откуда земля кажется подобием топографического чертежа. И Блинов, вглядываясь и напрягая взор, видит то, что проступает сквозь условные обозначения. Если воплощение в жизнь хоть иногда совпадает с замыслом создателя, площадка второго подъема в маленьком приволжском городке будет походить на райский сад, с тем только исключением, что никаких яблок там не будет, ибо на тонкой выносной линии, идущей от кружочков, обозначающих фруктовые деревья, ясно и недвусмысленно означено — вишня.
«И сказал бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле: и стало так.
И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидал бог, что это хорошо.
И был вечер, и было утро: день третий».
Вот как это было в те баснословные времена, и вот что за работу выполнял Блинов — не мудрено, что он все смотрел и смотрел, потому что он ведь был не господь и мог ошибиться с первым приближением. Вот он и подправлял то здесь, то там, пока не посмотрел в последний раз и не увидел, что это хорошо. И здесь он мог перевести дух — что, похоже, сделал на третий день и сам творец. Да, не исключено, что Блинов был похож в эти минуты на господа бога — он тоже был творцом. Бог, правда, ухитрялся создать все сущее из ничего, а Блинов создавал райский сад на площадке насосной станции второго подъема из прямых и кривых линий, нанесенных графитом на карандашную кальку, — но еще вопрос, чья задача была сложнее. Несомненно одно — пока что Блинову не приходилось разочаровываться, наблюдая свои творения воплощенными в жизнь, и это‑то и было самым большим чудом на свете, истинным чудом.
Ты сидишь у окна, и карандаш в твоей руке, послушно скользя по линейке, которая бесшумно передвигается вверх и вниз на латунных роликах, проводит вертикальные и горизонтальные, а также выносные линии, на которых четким шрифтом написано: «фруктовые деревья (вишня)». А потом, два или три года спустя (но для тебя эти два или три года, так же как и для Вечности, — одно мгновение), ты приезжаешь куда‑нибудь в Струги Красные, или Карпогоры, или еще куда‑нибудь и видишь, во что все это превратилось. Видишь деревья, усыпанные девственно‑белыми цветами вишни, и нежно‑зеленую траву под деревьями и знаешь, что все это родилось из переплетения толстых и тонких линий, которые некогда проводила твоя собственная рука, и, зная это, ты все‑таки еще не можешь поверить до конца.
Но потом, однажды, рано или поздно, ты начинаешь верить в это, и чувство, которое возникает в тебе, разом вознаграждает тебя за все: за долгие часы, которые ты проводишь, согнувшись над доской, за потертые нарукавники из черного сатина и за многое другое. Ибо и потом, когда тебя уже не будет и прервется след твой на земле, все же останутся — не здесь, так в другом месте — сотворенные по слову твоему миры, и ты останешься, пусть даже не ведомый никому и безвестный, жить в них.
И увидел он, что это хорошо…
Уф, хорошо. Полегчало. Можно и дух перевести. Но в эту минуту доносится: «Тамара…» — и кто‑то, ах, это Дементьева, одна из старой гвардии, машет ей рукой.
— В чем дело, Маша?
— Да вот барахлит моя телега, рвет нитку.
— А где механик? Фрол Петрович где?
— А он на «Интерлоках». И Модест с ним.
— Зови сюда. И Гурвича пусть прихватят.
И тут, в эти несколько минут, пока Маша уходит за механиками и снова приходит, она, переводя дыхание, снова успевает вспомнить о Тимофеевой, и о квартирных делах, и еще о многом, о чем она помнила с самого начала, о чем позже начисто забыла в обычной сутолоке рабочего утра: о Тимофеевой, и о Бернгардовке, и о том, что она должна позвонить своему брату Кольке, и о своей дочке, которая давно уже сидит за партой в школе. Обо всем, чем ей придется заниматься сегодня, завтра и послезавтра — и до конца дней. Она вспоминает об этом и еще о многом. И тут же забывает, потому что один за другим собираются механики — старый согбенный Петрович, и Модест, и взлохмаченный Гурвич, и тут они начинают колдовать вокруг этого остановившегося куска железа, пускать его, прослушивать, снова выключать, обмениваясь короткими репликами, междометиями, возгласами, пока наконец под ее нетерпеливыми взглядами Модест не выносит приговор, — надо разбирать. Она: «Как разбирать, вы что, с ума сошли? Вам дай волю, вы мне весь цех разберете, — мало вам «Интерлоков». И так из‑за монтажа тридцать процентов машин не работает». Тут Гурвич подает голос: «Может, попробуем сменить пружину?» Петрович: «Пружин таких нет».
И тут она бежит снова к телефону и не помнит уже ни о чем, и в голове у нее только проклятая пружина, и она трясет кладовщика до тех пор, пока он сам не приносит ей эту пружину: с этой Ивановой, усвоил он, лучше не доводить дело до скандала. А она, подавая Модесту пружину, не может не сказать: интересно, кто у них механик — она или он, Модест? И тут она думает, что жаль, как жаль, что нет здесь Кольки, нет его рядом и никогда уже не будет так, как было. Зачем, зачем ушел он отсюда, где им было так хорошо, и где он был так на месте, и, уж конечно, будь он механиком, ей не пришлось бы добывать то пружину, то еще что‑то. Не пришлось бы терпеть, что Модест то и дело «позволяет» себе, а она не может даже написать на него рапорт, потому что, сделай она это, администрация вынуждена будет его уволить. А что изменится? Хорошие, да и не только хорошие, механики сейчас на вес золота, всюду его возьмут с распростертыми объятиями и так же будут закрывать глаза на то, что он будет себе время от времени «позволять», лишь бы работал, лишь бы знал свое дело. А Модест был не просто мастером, не просто механиком, он был магом, волшебником и чудодеем, если только хотел…