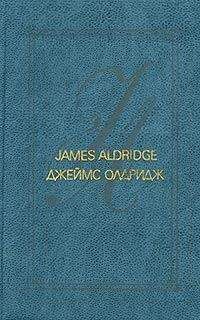— Но ты спала-то часа два всего. И я тоже.
— Я хотела тебя увидеть, пока те не встали, — сказала она. — Я кое-что тут решила.
Она заказала два двойных кофе, уже раскатала мой и свой croissant, намазала маслом, джемом, снова скатала. И первый положила мне на тарелку.
Значит, она кое-что решила…
— Насчет чего? — спросил я.
— Насчет тебя, конечно. — И тут она спросила, сколько мне лет.
— Девятнадцать, — сказал я. — А что?
— Мне два месяца назад восемнадцать исполнилось, — и она облизала с губ джем. — Но я гораздо тебя старше, женщины вообще гораздо раньше развиваются.
Я радостно задрожал, прежде чем успел как следует оценить эту мысль.
— Куда ты гнешь? Какое тебе дело до моего возраста?
— Просто я подумала, что ты еще ужасный ребенок.
Она очень деловито наливала мне кофе. И тут в первый раз при мне она оказалась неловкой. Поставила кофейник не глядя, прямо на кусок сахара, косо, кофе пролился на скатерть.
— Ох ты черт!
Кофе не успел еще как следует впитаться, а она уже прикрыла пятно развернутой салфеткой.
— Дай-ка свою, — велела она. Я протянул салфетку, она обтерла кофейник. Подозвала официанта, попросила еще две салфетки. И только когда пятно было надежно прикрыто и чистота, порядок и гармония вполне восстановлены, она вернулась к начатому разговору:
— Знаешь, что я подумала, когда тебя увидела в первый раз?
Я глупо моргнул, не зная, куда она клонит.
— Я подумала, что ты дико чистый, — сказала она. — Нетронутый такой и дико чистый…
Я даже не донес чашку до рта, так и плюхнул ее на блюдце.
— Ну… сам понимаешь.
— Ничего я не понимаю, — не выдержал я.
— То есть ты вышел из лесов совершенно естественным, в чем мать родила — и это сразу ясно.
— Да ну тебя, Бо!
— ет, правда, — продолжала она свое. — Ты так прелестно сохранился. Эдакий зверик. И ты весь из одного куска. А меня всю жизнь клеем склеивают.
Бо приложила руки к груди, будто демонстрируя свой тезис.
Я сказал: клей, видно, замечательный, каждому бы такой.
— Ты куда меньше меня похожа на «сложи картинку».
— Просто ты ничего про меня не знаешь, верно ведь?
— Да, — сказал я. — Мало что знаю.
— Нет, ты именно ничего не знаешь, — сказала она. — Это к лучшему.
И она скорчила на своей восемнадцатилетней мордашке то, что, видимо, казалось ей ужасной гримасой:
— Ой, хорошо б тебе так про меня и не узнать. Ты б ничего не понял.
Кусок не полез мне в горло. О чем это она?
Но Бо засмеялась.
— Да нет же, не пугайся. Я как ты — совсем еще зеленая. Je suis encore toute etourdie.[22] Только я этого не стесняюсь, а ты стесняешься. Просто моя жизнь на твою ну ни капельки не похожа. Вообще-то даже смешно. И она б тебе показалась дико странной и необыкновенной, и она б тебе не понравилась. Вот и все.
— Не понимаю, про что ты говоришь, — сказал я, Бо явно хотела, чтоб я приставал к ней, выуживал из нее каждое слово. А я не умел. Я ужасно нелепо себя вел.
— Хорошо бы мы были лет на десять постарше, — сказала она. — Или хоть ты был бы постарше.
— Зачем?
— Тогда было бы куда больше смысла в том, что я задумала.
Я немного обождал.
— Ну, — сказал я наконец. — А что же ты задумала?
Бо нервничала. Она сцепила пальцы и только закачала головой.
— Не дразнись! — выпалил я.
— А я и не дразнюсь. Я все тебе скажу. Честное слово, я сама скажу. Я только не знаю, как начать, ты уж меня не пытай.
Я пожал плечами.
— Как хочешь.
— Не сердись и не пожимай плечами. Мне, ей-богу, не до того.
Заманила меня в такую рань к завтраку, а теперь дает обратный ход. И я снова стал есть, решив молчать как рыба, и пусть говорит, когда ей вздумается, или вообще не говорит. Утомлять ее я не буду.
— Ну вот, ты и расстроился, — сказала она. — Я ведь вижу.
— У тебя все какие-то намеки, недомолвки, — проворчал я. — Что же прикажешь делать — силой из тебя слова выжимать, да?
Бо собрала шарф, перчатки, лакированную сумочку и схватила меня за руку.
— Кит, миленький, ты не сердись, у нас еще столько времени впереди. И я хочу тебе все рассказать по порядку, как следует, чтоб ты не пугался, не удивлялся и не думал, что я на тебя давлю. Вот и все.
— Ладно уж, — сказал я ласково. Я видел, какое серьезное у нее лицо, и понял, что она правда хочет мне сказать что-то очень важное.
— Ну, ты все съел?.. Тогда пошли, — сказала она.
— Куда это? — спросил я вставая.
— Я хочу спасти бедненькую шляпу Скотта.
— Господи, зачем?
— А зачем мы ее там бросили? Это безобразие. Несправедливо.
— Да как ты до лесу-то доберешься? — спросил я, выходя следом за нею на улицу. — Дотуда миль шесть-семь переть.
— На «фиате», конечно. Ты можешь править?
— Править-то я могу, — сказал я. — Но вдруг Скотт будет недоволен?
— Чем?
— Ну, что мы машину взяли.
— Но машина моя, Кит.
— «Фиат»?
— Ну да. А ты не знал?
— Не знал. Скотт говорил, это машина племянницы Джеральда Мерфи. Да, кажется, так он говорил — племянницы.
— А это я.
— Джеральд Мерфи — твой дядя?
— Нет. Не в полном смысле. То есть у меня сотни таких дядь. В общем, Сара — знакомая моей мамы.
Я стоял на тротуаре, задавал Бо множество вопросов, а она делалась все непонятней, так что впору просто спросить, кто она и откуда.
— тебя все на лице написано. — Теперь она подтрунивала надо мной. — Ну чего ты удивляешься? Мог бы догадаться. Так что давай, будешь править.
— Ой нет, — сказал я. — Это твоя машина…
— Не дури.
— Вдруг я ее разобью. — Я вспомнил свои неудачные опыты. К тому же я не сомневался, что Бо правит в сто раз лучше меня.
— Ладно, — сказала она. — Жалко. Но раз тебе не хочется…
Я затряс головой, мы сели в машину. Руль радостно подался под руками у Бо. Все ладилось, к чему только ни прикасались эти пальцы, и ладони, и запястья, эти руки и ноги. «Фиат» взял с места не кашлянув, и мы свернули в улочку и покатили мимо витрин, как на самокате.
— Осторожней! — не выдержал я. Мощный грузовик вынырнул впереди из переулка, а Бо его не заметила.
— Ненавижу эти серые грузовики, — оказала она. Она катила по людным улицам, как по пустыне. Мне вдруг захотелось зажмуриться. Мы выехали на площадь, и тут я окончательно понял, что Бо не умеет править. Все движения у нее были точные, но замечала она только то, что под носом. Водить машину — это не часы чинить. Бо не замечала ни людей, ни велосипедов, ни собак, ни кошек.
— Смотри! — Женщина переходила дорогу в пятидесяти метрах от нас, и мне снова пришлось орать. — Смотри же, Бо!
— Знаю! — крикнула она. — Французы дико неосторожны, правда?
Я ухватился за щиток одной рукой, за дверцу — другой, и я почувствовал облегчение, лишь когда мы выехали на пустую сельскую дорогу, которая шла в гору, в Фужерский лес, и привела нас к поляне, где мы оставили на палке шляпу Скотта.
— Ой, она еще тут, — обрадовалась Бо, выходя из машины.
Мне в дороге свело челюсть, и теперь я не сразу обрел дар речи.
— А ты как думала? — сказал я. — Что один из них прокрадется сюда ночью и ее стащит?
— Не напускай на себя цинизм, — ответила она. — Наивный и обиженный ты куда милей. Правда, ты тогда мне гораздо больше нравишься.
Нет, я окончательно понял, что ничего не могу с нею поделать. Я беспомощно и жадно глядел, как она осматривает бедную шляпу, расправляет вмятину, вертит «Федору» в руках, дышит на нее, пытаясь восстановить былое совершенство.
— Она вся промокла. А что ты с брюками-то сделал? Они ведь у тебя тоже все промокли и на заду разодрались…
— Я их выбросил, — оказал я. — А тебе советую выбросить шляпу. Вряд ли Скотт такую наденет.
— А ты скажи Эрнесту и Скотту про свои брюки, пускай они тебе новые покупают.
— Обойдусь, — выдавил я.
Бо засмеялась. Как всегда, моя гордость подвела меня и вогнала в краску. Но я так сгорал от любви к Бо, что уж не до того было, краснеешь или не краснеешь. Я все время злился, страдал, томился и радовался. Правда, я старался перебороть себя, и страх, и застенчивость, но у меня все было на лице написано.
— Вот бы мне быть как ты, — сказала она. — У тебя все чувства наружу. Я люблю, когда ты краснеешь.
Она стояла совсем рядом, почти прикасалась ко мне грудью. И тут я положил ладонь ей на лицо. Она отстранила мою руку и крепко ее сжала.
— А я и не краснею, — сказал я. — Просто у меня температура.
Она не слушала, моя попытка сострить провалилась. Бо спросила, что думаю я про Хемингуэя и Скотта.
— Останутся они друзьями, а? То есть настоящими друзьями?
— А что? — сказал я. — Пока они ведь еще держатся.
— Но ты разве не чувствуешь? Они оба старются измениться, чтото из себя сделать новое, а у них не выходит.
— Скотт, может, и старается, — сказал я. — И думает, что Хемингуэй старается тоже.