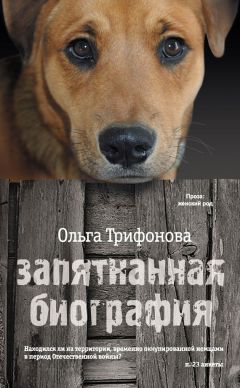— Да Бог с вами, Виктор Станиславович, я-то при чем? Мне что за дело? — сказала весело, а глаза нехорошие, злые, и губы дергаются болезненно. — Вы друга своего из жизни вычеркнули, а теперь…
— Лена!..
Впервые, и как жестко, словно чужую, неприятную, предупредил Валериан Григорьевич.
Но поздно. Что-то сорвалось в ней, какой-то крючок, какая-то щеколда, и посыпалось то, что сдерживала створка, с грохотом, неостановимо.
— Я очень люблю эти запоздалые раскаяния, но при чем здесь я, нет, мы! Вы же это хотели сказать. И отчего вы прощаете нас и за что? Может, за…
— Ты знаешь, за что, и прекрати, у тебя истерика, это некрасиво, — очень медленно и раздельно, как по радио диктуют сводку погоды, сказал Валериан Григорьевич. — Аня, принесите, пожалуйста, валерианку. Она в ванной, в шкафчике.
Я вскочила, метнулась к двери.
— Не нужно! — перехватила меня за руку Елена Дмитриевна и, не выпуская моей руки из горячей влажной ладони: — Ну что ж, можно и так, Валериан Григорьевич. Можно и так.
Я рассказала Агафонову на следующий день об этом инциденте. Я все рассказала ему — слепая, не ведающая, что творит, доносчица. И реакция его была неожиданна.
— Старые дураки, — скривился презрительно, — старые наивные болваны, думающие, что от них что-то могло зависеть.
В тот день он сказал мне, что нет зла и добра, что время есть и зло и добро и что писатель, написавший повесть, из-за которой разгорелся весь этот сыр-бор в доме Петровских, понимает это, а они — Буров и Петровский — не понимают. Мне было неприятно, что назвал старыми дураками, и непонятно, отчего это нет добра и зла, но я верила Агафонову, верила каждому его слову, не ведая, каким горьким разочарованием обернется эта вера, какой бедой.
Я смотрела на писателя, который считал, что время может быть злом и может быть добром, и не видела на его лице этого опыта. Лицо было угрюмым и бледным, словно заспанным. И сонный взгляд равнодушно следил, как за стеклянной стеной бара, на зеленом бугре газона, подпрыгивая и припадая к земле, мышкует здоровенный пушистый кот. Рядом с ним спиной к нам стояла женщина в длинном вечернем платье, открывающем полные дряблые руки с наплывами над локтями и розовый выпуклый треугольник спины.
Если бы можно было подойти спросить: скажите, вы правда так считаете про добро, и зло, и время, и еще про то, отчего это у человека вдруг все так меняется, что может с ним произойти такое, что любовь превращается в ненависть, и кто в этом виноват, и зачем люди лгут, и отчего любовь бессильна. Я бы все это спросила, я бы даже рассказала ему про себя и Агафонова, если б захотел слушать, рассказала бы, не называя имен, вроде бы про мою подругу, он, наверное, смог бы объяснить. Он очень хороший писатель, я потом прочитала все его книги, потому что они нравились Агафонову.
Но невозможно. Не потому, что стыдно, неловко, не принято, мне слишком важен ответ, чтоб думать об условности, и не потому, что взгляд у него сонный, равнодушный, — кому нравится в очереди стоять, — а вот ямочки на локтях, и складка на шее, и треугольник спины рядом останавливали. Розовая нежная плоть — она из другой жизни, из той, где она главный аргумент, и в ней ответ на все вопросы. Рука мужчины время от времени привычно и заученно поглаживала сдобное предплечье неуместно нарядной в этой скучной очереди спутницы, поглаживала будто для того, чтобы удостовериться лишний раз в высоком качестве кожи.
Нет, не стану у него спрашивать ни о чем, даже если встретимся в глухом лесу или попадем на необитаемый остров, не стану спрашивать.
Потом, в кино, знаменитый писатель и его жена сидели перед нами. Во время фильма он поглаживал ее шею там, где жирная складка, но ни одним словом не перемолвились эти двое за весь вечер. И ни одним взглядом не обменялись. Даже странно.
Я запомнила тот вечер, проведенный в Доме творчества среди знаменитых веселых людей, запомнила привкусом унижения, запомнила слова подсевшего за наш столик немолодого мужчины с пронзительными голубыми глазами. Не замечая кокетства Дайны, он серьезно расспрашивал ее о работе, о клинике, советовал ей поступить в институт, а потом неожиданно мне, молчаливой своей соседке:
— У вас горе?
— А разве заметно? — только и нашлась что ответить.
— Заметно. Вас что-то сильно стукнуло, очень сильно и очень больно.
— По-латышски это называется разговаривать через цветы, — засмеялась Дайна, — вот так будет совсем правильно. — Поставила между нами вазочку с душистым горошком.
— Почему через цветы? — спросил мужчина. — Это какая-то идиома?
— Ну да. Всякие намеки, недомолвки.
— Ну, какие тут намеки. У вашей подруги взгляд смертельно раненного человека.
Я очень боялась, что Дайна будет допытываться, выспрашивать, но она молчала в автобусе, молча мы дошли до дома. Когда вошли в дом, обошла все комнаты, вернулась в кухню, где я накрывала на стол, спросила с холодноватым недоумением:
— Откуда у тебя этот дом?
— Это не мой.
— А чей?
— Моих… родственников.
Посмотрела долго, внимательно, потом коротко:
— Пойду искупаюсь. Где у тебя халат?
Утром громко разговаривала по-латышски с Вилмой, обсуждала Вилмины прекрасные розы. Не знаю, спросила ли у Вилмы, кто я и как здесь оказалась, но с того дня стала теплее ко мне, утешала домашней снедью, вводила в курс больничной жизни и сплетен.
Вот идет мне навстречу доктор Ванага. Он не заметил меня, торопится в детское отделение, а я знаю, что он лучше всех лечит ожоги. Не только трансплантацию уникальную делает, но и сам изобретает мази, аэрозоли чудодейственные. Весь отпуск проводит в лугах, собирая травы. Проехал на блистающих лаком «жигулях» элегантный, бронзово-загорелый доктор Бренч. Бонвиван и холостяк. Дайна была у него в гостях: «Магнитофон — сойти с ума! „Грюндиг“ с колонками и записи — первый сорт! Эррол Гарнер, Генри Манчини». Портрет доктора Бренча на Доске почета. Он дружит с заведующим нашей лабораторией, часто приходит к нему, и тогда в коридоре пахнет медовым табаком и лавандой. В отделении Бренча лечат опухоли головного мозга, лечат без скальпеля, электромагнитным полем. Дайна говорит, что его метод уникален, что к нему со всего мира приезжают перенять опыт и что если бы он не был так избалован женщинами и вольной жизнью, то вполне бы подошел ей в мужья. Думаю, что доктор Бренч о том, что в мужья Дайне годился бы, если б бросил дурные привычки, просто не догадывается.
— Анит, Анит, на чурп! — зовет из окна моя учительница.
Бегом по лестнице на третий этаж в женское отделение.
— Ты пойдешь вместо Милды, у нее страшный насморк, а больше мне дать некого.
Моя учительница сухощава и решительна. Моя учительница всегда и все говорит тоном приказа — имеет право: лучшая медсестра клиники и тридцать лет стажа.
— Но я, но мне…
— Я позвоню, это всего на час. Все равно пришла бы колоть подушки. — И уже подталкивает к выходу: — Пошли, пошли. Это ерунда, справишься. Тебе скажут, что делать.
Я еле поспеваю за ее размашистым шагом, семеню рядом, как собачка. Приемный покой, лестницы, переходы, белая кафельная комната без окон.
— Раздевайся.
— Зачем?
— Раздевайся, говорю.
С треском разорвала нитки, скрепляющие стопку больничного, белого.
— Надевай халат, вот так. Волосы под шапку, все, все, чтоб ни одной пряди, теперь вот это, — с грохотом бросила передо мной странные бахилы-сабо из кожимита, — надень маску, да поплотнее, плотнее завяжи. Так. Молодец. Умница! — Вытолкнула меня прямо к раковине умывальника. — Ильза, объясни ей, она смышленая.
Под руководством Ильзы мою руки, а за спиной тихие голоса. Короткие реплики по-латышски. Ильза — что-то недовольно обо мне, другая женщина — примирительно. Спросила ласково:
— Первый раз в операционной?
— Да.
— Не смотри, занимайся только своим делом. Я буду спрашивать, ты отвечай. Смотри вот только на приборы и на меня, поняла?
— Да.
— Там столбик и стрелка, очень просто.
— Да.
И вижу все сразу: желтый кафель стен, старый клен за огромным окном, солнечные пятна на зеленой лужайке и серо-сизое лицо больного. Щетина на щеках, щетина на черепе. Голубоватое худое тело, синие ситцевые трусы и впалый живот. Его словно вынули из золы и не смыли тончайшую пыль.
На лице больного резиновая маска, ее придерживает та, которой я должна сообщать показания приборов. Очень загорелая, ярко накрашенные глаза над марлей. Сидит у изголовья, взглядом приказывает подойти ближе.
— И без глупостей, девочка. Здесь не до тебя, поняла?
— Поняла.
Пепельная рука тянется к маске, вяло, неточно, не дотягивается, падает, снова тянется. Хриплое бульканье. Я не буду смотреть, не буду. Только на приборы.