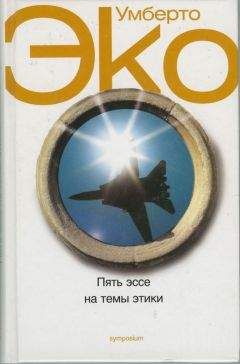Подле жестяных коробов, в картонном ящике, хранились сигаретные пачки. Боже, он и это собирал, оказывается, дед. Думаю, немало энергии уходило на выпрашивание у путешественников, у заезжих из дальних мест. Ведь тогда коллекционирование повседневных предметов не было популярно, как в наши времена. В ящике обнаружились совершенно неслыханные сигареты: «Mjin Cigarettes», «Makedonia», «Turkish Atika», «Tiedemans Birds Eye», «Calypso», «Cirene», «Kef Orientalske Cigaretter», «Aladdin», «Amiro Jakobstadt», «Golden Est Virginia», «Al Kalif Alexandria», «Stanbul», «Sassja Mild Russian Blend». Роскошные картинки на пачках, с изображением визирей и пашей, с одалисками — как на «Cigarillos Excelsior De la Abundancia», или с подтянутыми английскими моряками в бело-синих кителях, при подстриженных бородках а-ля король Георг, пятый, что ли. Другие пачки, я их, казалось, узнавал в лицо, вспоминал их в руках у дам: слоновой кости картон, этикетки «Eva», «Serraglio», затем пачки бумажные, мятые, жеваные, от пролетарских сигарет «Africa» и «Milit», которые никому не пришло бы в голову собирать, кроме дедушки, слава небесам, что он вытащил их из какой-то мусорной урны и заколлекционировал.
Не менее десяти минут я пролюбовался на расплющенную жабу — мятую оболочку от «Sigarette Macedonia», 10 штук, 3 лиры, покуда губы мои не произнесли: — Дуилио, от этой «Македонии» у тебя пальцы желтеют…
Об отце я не знал еще почитай ничего, кроме того, что он точно, непременно, бесспорно курил «Македонию», и — подумать только — ровно-таки эту, вытянутую из вот этой пачки, а мама пеняла ему на пожелтевшие от «Македонии» пальцы. «Они уже как хинные пилюли». Я начинал реконструировать образ отца с танинной бледной желтизны. Небогато, но достаточно, чтобы оправдать все мое паломничество в Солару.
Потом я опознал и содержимое соседнего ящика, откуда до сих пор пованивало грошовыми духами. О, эти штучки и ныне еще всплывают на коллекционерских распродажах. Но сколько же они стоят теперь! Недавно я как раз приценивался на площади Кордузио… Парикмахерские календарики, просандаленные ароматической эссенцией до такой невообразимой степени, что и через пятьдесят лет от них несет кокотками, кринолинами и декольте, красотками на качелях, безумными поклонниками, восточными танцовщицами и египетскими царицами… Дамские Укладки Былых Эпох. Красотки — Талисманы Успеха. Итальянские Звезды: с Марией Дени и Витторио Де Сика. Наше Величество Женщина. Саломея. Душистый Альманах Стиля Ампир с Мадам Сен-Жен. Весь Париж. Лучшее мыло «Кэнкэн», универсальное туалетное мыло убивает микробы, незаменимо в тропическом климате, против скорбута, малярии, сухой экземы (так!) — и неизвестно почему с монограммой Наполеона. Первая из картинок — великий император, узнающий от турка о грандиозном открытии и повелевающий его внедрить. Нашелся и календарик с поэтом Д'Аннунцио. Ни капли совести у брадобреев.
Примечание к рисунку[197]
Примечание к рисунку[198]
Я принюхивался опасливо, точно лазутчик. Парикмахерские календарики вполне были способны разжечь подростковое воображение. Допускаю, что от меня их прятали. По всей видимости, в подкровелье происходило формирование моей ранней сексуальности.
Солнце отвесно лупило в чердачные проемы, я все не удовлетворялся многим виденным. Не находил ни одного предмета, который был бы только моим, вполне моим… Хотя вот еще комод, я выдвинул ящик: комод был набит игрушками!
В нашем крыле я успел посмотреть на игрушки внуков (яркая пластмасса и электронные компоненты). Когда я подарил Сандро пароходик, тот сразу предупредил меня, чтоб не выбрасывал упаковку, где-то прицеплена батарейка… Мои собственные игрушки были из дерева и из жести. Сабли, пробковые ружья, детский пробковый шлем времен покорения Эфиопии, целая армия оловянных солдатиков и каких-то еще побольше из хрупкого материала, с отскочившими головами, без рук или только с проволочкой на месте утраченной руки, и на проволочке подрагивают осколки крашеного гипса. Эти сабли, эти инвалиды были моими товарищами во все дни детства, в те мои славные боевые дни. Конечно, в предвоенное десятилетие любой мальчик обязательно воспитывался так, чтобы он обожал войну.
Во втором ящике — куклы моей сестры, может даже перешедшие от матери, может даже унаследовавшей их от матери (были же на свете времена, когда игрушки наследовались): фарфоровые личики с розовыми губами и пламенеющими щечками, тюлевые платья; до сих пор они не разучились закрывать глаза. Одна кукла при перекладывании тихо сказала «мама».
Вперемешку с ружьями там и сям были навалены какие-то удивительные, выпиленные из дерева плоские солдатики в красных кепи, синих мундирах и красных брюках с желтыми лампасами, внизу имелись колесики. У них были не военные лица, а дурашливые, носы картошкой. Я моментально решил, что это солдатики капитана Картошки из Потешной роты. Я был уверен, что их именно так следует называть.
Наконец я извлек жестяную лягушку, пожмешь ей пузо, и она глухо квакнет. Ну если тебе совсем не хочется сливочных драже доктора Озимо, всплыло в голове, то посмотри, какая лягушка. Какая связь между лягушкой и доктором? Кому кто сказал «посмотри»? Неизвестно. Требует размышлений. Поэтому я засунул лягушку в карман.
Я засунул в карман лягушку и заподозрил, что Мишка Анджело в смертельной опасности. Кто такой Мишка Анджело? Как он связан с железною жабкой? Что-то трепещется. И жабка, и Анджело-Мишка меня привязывали к какому-то человеку, но стерильная проклятая словесная память не отвечала на мольбу. Впрочем, выскочили стишата: Va a iniziare la sfilata, Capitano La Patata. Марширует по дорожке Капитан Картошка. Дальше — настоящее время, тишина, орехового колера спокойствие подкровелья.
На второй день заявился Мату. Он вспрыгнул ко мне на колени, я как раз ел, и получил корочку от сыра. Выпив традиционную бутылку вина, я слонялся без толку, покуда не увидел два шатких шкафа против застекленного проема в крыше. Шкафы были подперты клинышками. Я сумел открыть один, не свалив, но с отъехавшей дверцей рванулось наружу все книжное содержимое. Оно налетело на меня, как стая сычей, нетопырей, полунощников, много веков протомившихся в неволе, ватага джиннов из бутылки — тебя-то и ждали, неосторожный, горе тебе, горе тебе.
Одни оползали к моим ногам, другие переполняли руки — я ведь успел какие-то подхватить, — целая библиотека, а может, товар из дедового магазинишки, неликвиды, удержанные тетушкой и дядей.
Никогда бы мне не переглядеть всю эту груду, но я то и дело воспламенялся вспыхивающими и гаснущими узнаваниями. Книги были на разных языках, разного времени, от некоторых названий таинственное пламя вообще не вспыхивало, поскольку они принадлежали к общеизвестному культурному слою, — допустим, старые переводы русских классических романов. Но если взять хоть один такой том и перелистать, чувствуешь укольчик — о, этот старомодный итальянский язык, излетавший из уст переводчиц с двойными фамилиями (своя и мужнина), которые переводили, как указывается на фронтисписе, с французского, отчего у героев образовывались фамилии на ine — Мышкине, Рогожине.
Торкнешь листы — рассыпаются под пальцами, видно, причина в том, что вся эта бумага пролежала десятилетиями в гробовой темноте — не выносит света. Крошатся поля, отламываются истонченные уголки.
Я приник к «Мартину Идену» — сразу за последнюю фразу, пальцы отыскали самостоятельно, Мартин Иден, на пике славы, кидается в море из иллюминатора океанского лайнеpa, чтобы умереть, рухает во тьму и уже чувствует, как вода проникает к нему в легкие, понимает в последний миг просветления нечто чрезвычайно важное о жизни, может быть, о смысле жизни, но в миг, когда он узнал это, он перестал знать.[199]
Требовать ли от жизни последней истины, если, овладев последней истиной, мы рухаем во тьму? Поставленный по-новому вопрос бросил тень на все, чем я был занят. Стоила ли цель таких усилий? Не дар ли это судьбы — забыть? Однако, начавши, остановиться я уже не мог.
Примечание к рисунку[200]
Примечание к рисунку[201]
Провел день, почитывая оттуда и отсюда и порой понимая, что шедевры, укомплектовавшие мою универсальную взрослую память, всаживались в памяти в готовые лунки, сформированные детскими и юношескими чтениями адаптаций и пересказов из серии «Золотая лестница» («Scala d'Oro»). Мне были знакомы стихи из сборника «Корзина» («Il Cestello», автор Анджоло Сильвио Новаро: Che dice la pioggerellina Di marzo che picchia argentina Sui tegoli vecchi del tetto, Sui bruscoli secchi dell'orto? (Что говорит весенний дождь, Который бьет по крыше вдрожь И мочит жухлое былье И прошлогоднее жнивье?) Или вот другой стишок: Primavera vien danzando, Vien danzando alla tua porta, Sai tu dirmi che ti porta? Ghirlandette di farfalle, Campanelle di vilucchi. (Весна, танцуя, прилетает, С дарами, с полными руками. Из бабочек венки свивает, Из колокольчиков с вьюнками.) Понимал ли я в те времена такие слова, как «жнивье» и «вьюнки»? Не успел я задуматься — взгляд упал на книжки из серии «Фантомас» — «Лондонский висельник», «Алый шершень», «Пеньковый галстук», погони по парижским катакомбам, девы, встающие из могил, четвертованные трупы, отсеченные головы и сам он, князь преступного мира, в черном трико, вечно воскресающий и оглашающий сатанинским смехом ночной подземельный Париж.