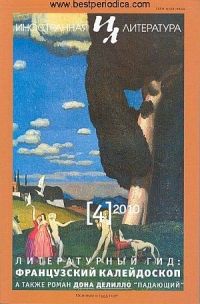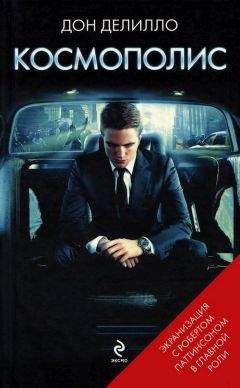— Прошло двадцать лет.
— И он видит форму, цвет, пространство, красоту.
— Это более прогрессивная эстетика?
— Он видит свет.
— Или художника, который умеет себя продавать или себя обманывать. Комментирует в духе собственника.
— Мартин видит свет, — сказала Нина.
— И деньги тоже видит. Работы-то очень недешевые.
— Да, очень. И сперва я гадала, как они к нему попали, совершенно серьезно. Подозреваю, в начале пути он иногда приторговывал краденым.
— Занятный тип.
— Однажды он мне сказал: «Я был кое в чем замешан. — И добавил: — Это не значит, что моя жизнь интереснее твоей. Ее можно приукрасить. Но в памяти, в глубине души, — сказал он, — ярких красок или увлекательных поворотов немного. Только серый цвет, только ожидание. Сидишь, дожидаешься. — Он сказал: — Все, знаешь ли, такое… нейтральное».
Она ловко — пожалуй, чуть-чуть озлобленно — передразнила его акцент.
— Чего же он дожидался?
— Наверно, исторического момента. Толчка к действию. Прихода полицейских.
— Полицейских? Из какого отдела?
Не тех, кто расследует кражи произведений искусства. Одно я знаю. В конце 60-х он был членом коммуны. «Коммуны 1».[19] Ходил на демонстрации против ФРГ — против фашистского государства. Фашистского в их понимании. Сначала они швырялись яйцами. Потом перешли на бомбы. Потом… точно не знаю, чем он занимался. Кажется, одно время жил в Италии — в смутные времена, когда действовали «Красные бригады». Но точно не знаю.
— Не знаешь.
— Да.
— Двадцать лет. Вместе едите и спите. И не знаешь. Ты его спрашивала? Допытывалась?
— Однажды он показал мне объявление. Несколько лет назад, когда мы встретились с ним в Берлине. У него там квартира. Объявление о розыске преступников. Немецких террористов начала 70-х. Девятнадцать имен, девятнадцать лиц.
— Девятнадцать.
— Подозреваются в убийствах, взрывах, ограблениях банков. Он его хранит — зачем хранит, не знаю. Но зачем мне показал — понимаю. Его лица там нет.
— Девятнадцать.
— И мужчины, и женщины. Я их сосчитала. Может быть, он входил во вспомогательную группу или в резервную ячейку. Не знаю.
— Не знаешь.
— Он думает, что эти… джихадисты… он думает, у них есть что-то общее с радикалами 60-70-х. Думает, все они — дети одной традиции. У них тоже есть теоретики. Тоже есть концепции мирового братства.
— Они что, будят в нем ностальгию?
— Не сомневайся, я с ним об этом поговорю.
— Голые стены. Почти голые, ты сказала. Это от тоски по старому? Дни и ночи в подполье, где-то прячешься, отказываешься от мало-мальского комфорта в быту. Может быть, он кого-то убил. Ты не спрашивала? Не допытывалась, не было ли такого?
— Послушай, если бы он натворил что-то серьезное: убил, тяжело ранил, — гулял бы он сейчас на свободе, сама посуди? Он больше не скрывается, если вообще скрывался. Ездит сюда, катается по всему свету.
— Действует под чужим именем, — сказала Лианна,
Она сидела на диване, лицом к матери, наблюдая за ней. Никаких слабостей она за Ниной никогда не замечала — насколько помнила, ни одной, ни тени малодушия, никаких отступлений от трезвых, бескомпромиссных оценок. А теперь поймала себя на том, что готова воспользоваться брешью в обороне — и подивилась. Готова выжать из шанса все, не давать Нине спуску, терзать, вгрызаться.
— Столько лет. Даже не допытывалась. Ты только посмотри, в кого он превратился — каким мы его знаем. Именно таких людей они считали врагами, верно? Эти, объявленные немцами в розыск. Похитить гада. Сжечь его картины.
— Ну, по-моему, это он осознает. Думаешь, нет?
— Но что ты все-таки знаешь? Неужели не расплачиваешься за неведение?
— Расплата — мое дело. Заткнись, — сказала мать.
Нина вытащила из пачки сигарету, зажала в руке. Казалось, она размышляет о чем-то далеком, скорее взвешивает, чем вспоминает, оценивает масштабы, значимость.
— Единственная стена, на которой что-то висит, — в Берлине.
— Объявление о розыске.
— Объявление не висит. Объявление он держит в кладовке, в тубусе. Нет, это маленькая фотография в неказистой рамке, висит над его кроватью. Мы с ним вдвоем, любительский снимок. Стоим у церкви в каком-то городке в горах Умбрии. На следующий день после знакомства. Он попросил женщину, которая шла мимо, нас сфотографировать.
— Отчего эта история меня бесит?
— Его зовут Эрнст Хехингер. А история тебя бесит, потому что ты думаешь, что она меня позорит. Означает, что у меня на совести сентиментальный жест, бабская глупость. Дурацкий туристский снимок. Единственное произведение искусства, которое он держит на виду.
— Ты не пыталась выяснить: этого Эрнста Хехингера полиция не разыскивает? Полиция какой-нибудь европейской страны? Просто чтобы знать. Чтобы больше не говорить: не знаю.
Ей хотелось проучить мать — но не за Мартина или не только за Мартина. Причина была ближе и глубже и, в сущности, касалась одного-единственного момента. Главное, как они вдвоем живут, как крепко сцеплены, точно руки, сложенные в молитве — ныне и во веки веков.
Нина закурила, выдохнула дым. При взгляде на нее казалось: выпускать изо рта дым — тяжелая работа. Снова клюет носом. Ей прописали лекарство, в котором содержится фосфорокислый кодеин, и до самого последнего времени Нина принимала этот препарат осторожно. Собственно, она всего несколько дней — наверно, с неделю — перестала делать предписанные упражнения, но дозы болеутоляющих не уменьшила. Лианна считала это слабоволие капитуляцией, а главной причиной капитуляции — Мартина. Эти его девятнадцать товарищей — те угонщики, те джихадисты, — пусть даже только в воображении ее матери.
— Над чем ты сейчас работаешь?
— Книга о древних алфавитах. Все виды письменности, всё, чем люди писали и на чем писали.
— Наверно, интересно.
— Тебе стоит прочесть.
— Наверно, интересно.
— Интересно, сложно, иногда очень занятно. И рисунки тоже. Рисуночное письмо. Когда выйдет, я тебе принесу.
— Пиктограммы, иероглифы, клинопись, — сказала мать. Казалось, она грезит вслух. — Шумеры, ассирийцы и так далее.
— Я тебе принесу книгу, обязательно.
— Спасибо.
— Да не за что, — сказала Лианна.
Тарелка с сыром и фруктами осталась на кухне. Она еще немного посидела с матерью и пошла за едой.
Троих игроков называли только по фамилии: Докери, Ромси, Хованис, а двоих — по имени: Деметриус и Кейт. Терри Чен звался Терри Чен. Как-то один из них сказал Ромси (это был Докери, остряк-копирайтер), что вся его жизнь — жизнь Ромси — сложилась бы иначе, если изменить в его фамилии всего одну букву. Поменять «о» на «и». Сделать из него Римси. Это «о», «ром», предопределило его жизнь и натуру. Как он говорит, как ходит, его вялость и сутуловатость, даже его рост и фигуру, его медлительность и тугодумие, заметные даже слепому, и как он засовывает руку за пазуху — почесаться. Все было бы иначе, родись он Римси. Они сидели и ждали, что скажет Р., смотрели, как он сник, придавленный диагнозом.
Она спустилась в полуподвал с полной корзиной грязного белья. Тесная серая комната, сырость, духота, стиральная машина, сушилка, стужа с металлическим — прямо челюсти сводит — привкусом.
Она услышала шум сушилки и, переступив порог, увидела Елену: та прислонилась к стене, руки сложены на груди, в пальцах сигарета. Елена не подняла глаз.
Некоторое время они слушали, как белье скачет в барабане. Потом Лианна поставила свою корзину и открыла дверцу стиральной машины. На фильтре осели катышки с чужого белья — белья этой женщины.
Окинув фильтр взглядом, она вытащила его из машины и протянула Елене. Та замешкалась, потом взяла фильтр, осмотрела. Не меняя позы, не глядя, дважды стукнула фильтром по стене, на которую опиралась. Снова глянула на него, затянулась сигаретой и передала фильтр Лианне: та взяла его, осмотрела, положила на сушилку. Кинула свои вещи в машину — отбирала темные, хватала и швыряла — и снова надела фильтр на мешалку, или на трясучку, или как там она называется. Засыпала порошок, выбрала на пульте опции, установила таймер, тоже расположенный на пульте, закрыла крышку. И повернула ручку, включая машину.
Но из комнаты не ушла. Предположила, что белье в сушилке почти высохло — иначе зачем эта стоит тут и ждет? Предположила: эта спустилась сюда всего несколько минут назад, увидела, что белье еще не досохло, и решила подождать, а не ходить вверх-вниз по лестнице. Со своего места Лианне плохо был виден таймер, а демонстративно подходить и смотреть не хотелось. Но и уходить она не собиралась. Встала у стены, перпендикулярной той, к которой, полусползая на пол, прислонилась эта женщина. Их ограниченные поля зрения, вероятно, пересекались где-то в середине комнаты. Лианна стояла прямо, чувствуя, как отпечатывается на лопатках рельеф щербатой стены.