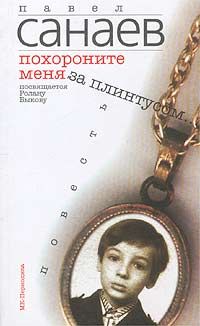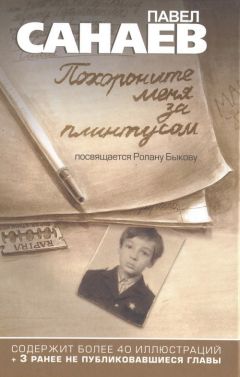Ознакомительная версия.
От сердца отхлынула привычная зависть. Юные техники, спортсмены и танцоры перестали быть занозой — превосходство в чем-то успокоило меня во всем. Я понял, что если увижу теперь по телевизору отвратительного мальчика моего возраста, который поет и мотает головой на манер взрослого, или фильм, в котором такие же ребята плавают с аквалангами и ловят шпионов, в то время как я, сделав математику со среды по пятницу, сдаю с компрессом на спине анализ крови, меня не затрясет от раздражения и злости. Я усмехнусь и подумаю про себя: «Ха, а у меня зато „Филипс“!» И необычайный покой укрыл меня, как теплое одеяло.
— Что ты вертишь туда-сюда?! Кокнешь, гицель этот потом мне всю печень выест, — сказала бабушка, застав меня в разгар эйфории.
— Да вот, разбираюсь… — снова небрежно сказал я и тоном человека, который во многом уже разобрался, добавил: — Тут как раз кнопка есть, если с музыки на другое что-нибудь переключать. Языком, например, заниматься…
— Вот это хорошо! — одобрила бабушка.
Указанная мной кнопка на самом деле устанавливала на ноль счетчик, но, пользуясь бабушкиным неведением, я придумал ей другое назначение, чтобы показать — музыка меня не привлекает, я человек серьезный и магнитофон собираюсь использовать для дела. Чтобы бабушка точно не заподозрила меня в крамольных намерениях, я указал на коробку, где был нарисован орущий в микрофон волосатый певец, и вроде невзначай сказал:
— Надо ж рожу такую нарисовать. Можно подумать, все такое записывать будут.
Успокоенная моей благонадежностью бабушка снова оставила меня с магнитофоном наедине, и я тут же принялся крутить ручку приемника, отыскивая музыку, которую можно было бы записать. Я записал где-то с середины «Арлекино, арлекино», почти целиком «Надежда, мой компас земной» и два куплета совсем дурацкой песни, где пелось про парня, который улыбался в пшеничные усы. Улов меня огорчил. Такой музыкой было не сразить даже Борьку, что говорить про старших ребят, которые наверняка подняли бы меня на смех — особенно за пшеничного парня. Я принялся ловить снова и наконец поймал на коротких волнах достойный, хотя и булькающий от искажений рок-н-ролл. Певец, голос которого сразу нарисовал в моем воображении лицо, изображенное на коробке, взахлеб пел что-то «Бюль-бюли, аулерюри…» Я записал это на место пшеничных усов и остался доволен. Почему-то я был уверен, что поймал «битла». Теперь надо было зазвать к себе на минуту Борьку. Я пошел к телефону и услышал, что бабушка с кем-то разговаривает.
— … занят сейчас, — говорила она в трубку. — Не знаю, с магнитофоном возится, дедушка ему привез. Надо разобраться, что как включать, машина сложная. Да, вот так. У него нет матери, зато есть магнитофон. Ничего, магнитофон его не предаст, как некоторые…
Три слова вспыхнули передо мной, как праздничный фейерверк: «…дедушка ему привез». Так, значит, мне!
— Кто это? — спросил я.
— По делу, — ответила бабушка, прикрыв трубку рукой. — Иди, не стой над душой. А то такой магнитофон будет, как прошлогодний снег. Иди.
Поняв, что бабушка наверняка разговаривает со Светочкиной мамой, а значит, у меня есть часа два, я поторопился снова включить радио, чтобы записать что-нибудь еще. Тут вернулся дедушка. Я прокрутил ему «Бюль-бюли, аулерюри,..» и сильно пожалел об этом.
— Ну вот что, я такого хамства не позволю! — грозно заявил дедушка и, взяв магнитофон со стола, стал запихивать его в коробку. — Вот же говно маленькое, как руки свои распустил!
— Что такое? — спросила бабушка, которая неожиданно быстро закончила свой разговор.
— Ничего! — гаркнул дедушка, сверкая глазами из-под бровей, как он изредка умел. — Совсем очумели! Ничего моего в доме нет! Все прибрали!
— Успокойся, малохольный! — попросила бабушка с редким для нее миролюбием. — Кто у тебя что забрал?
— Вы забрали! Все забрали! — ругался дедушка, и непослушная коробка никак не поддавалась его нервным рукам. — Первый раз привез что-то себе, отойти нельзя, уже этот чмур тянется. Ни разрешения, ничего! Разберется он что к чему… Без сопливых разберемся! Хоть одна вещь может моя быть, чтоб вы без моего разрешения не брали? Или все тут ваше?!
Дедушка закрыл наконец коробку и задвинул ее стоймя за диван.
— Будет тут стоять, и трогать не смей! — сказал он мне. — Вот я умру, будешь пользоваться. А пока знай, что не все тут твое.
Превосходство, так ненадолго поднявшее меня над другими, разлетелось вдребезги. Я не мог больше думать: «А у меня „Филипс“!»
Но бабушка посчитала иначе. В спальне она взяла меня за плечо, наклонилась и зашептала в самое ухо:
— Не обращай на старика внимания. Разорался, потом забудет. Завтра пойдет жопу на бытовой комиссии просиживать, достанешь, будешь включать сколько хочешь, только к приходу его спрячешь. А потом я договорюсь, он тебе разрешит. Он тебя любит, все для тебя сделает. Просто для приличия поорал немного.
На этом мы легли спать.
Проснувшись утром, я почувствовал необычное желание поскорее встать. Что-то вчера изменилось в моей жизни, что-то появилось хорошее, интересное.
«Магнитофон!» — вспомнил я, нетерпеливо вскочил с кровати и, быстро одевшись, поспешил в дедушкину комнату.
Магнитофон стоял на прежнем месте. Дедушка одевался в прихожей, чтобы уходить. Я косился на стоявшую за диваном желтую коробку, и мне казалось, что дедушка нарочно одевается так медленно. Ну почему ему надо дважды оборачивать вокруг шеи шарф?!
— Другие ботинки надень, — сказала бабушка.
— Я в этих пойду.
— Надень другие, эти холодные.
— Почему холодные? На меху…
— Надень, говорю, те, эти намокают, слякоть на улице.
— Ну тебя к черту! — обозлился дедушка и наконец ушел.
— Баба! Магнитофон можно? — затрепетал я.
— Пожри сначала, что так неймется'?
— Но можно?
— Можно, можно…
Пока бабушка готовила гречневую кашу, я бережно вытащил коробку из-за дивана и поставил ее на стол. Открыл крышку, увидел блеснувшую между пенопластовыми прокладками черную пластмассу, и руки у меня задрожали от волнения. Вдруг раздался звонок в дверь.
— Кто там? — крикнула бабушка из коридора.
— Я… Нина… — послышался странно отрывистый голос дедушки.
— Прячь, прячь! — замахала бабушка рукой. Я быстро стал убирать магнитофон на место.
— Ну… открывай же… скорей… Не могу…
— Сейчас, погоди… Усрался, что ли? Сейчас, шнур от телефона запутался, не могу пройти.
— Открывай…
Бабушка глянула в комнату и, убедившись, что я поставил магнитофон как было, открыла дверь.
— Что такое?
— Упал, ох… Поскользнулся у гаража… Боком на камни какие-то… Ох… Помогите до кровати дойти… Не могу…
Мы с бабушкой довели скорчившегося дедушку до его дивана и усадили.
— Снять… Снять пальто помогите… Бок… Болит, рукой не могу шевелить… Ботинки снимите…
— Говорила тебе, другие надень, — напомнила бабушка, снимая с дедушки меховой сапожок.
— Молчи! Молчи, не доводи! Дай… отдышаться. Болит, вдохнуть не могу…
Сняв с дедушки ботинки, бабушка уложила его на здоровый бок, задрала на нем рубаху и стала смазывать ушиб мазью арники. Взволнованный происшедшим, я стоял рядом, спрашивал: «Деда, как же ты так?» и, хотя действительно переживал, не мог справиться со своим взглядом, который то и дело притягивался, как магнитом, к стоявшей за диваном желтой коробке. Некстати дедушка поскользнулся.
К вечеру дедушке стало хуже. Он не мог шевельнуться и стонал. Кожа на боку набрякла лиловым. Приехавший врач сказал, что у него трещина в ребре, сделал повязку и велел несколько дней не двигаться. Ночью, когда я уже лег в кровать, а бабушка осталась смотреть с неподвижным дедушкой телевизор, я услышал громкие крики. Дедушка кричал во весь голос и просил бабушку что-нибудь сделать. Бабушка перепугано голосила. Я решил, что дедушка умирает, и как был, без тапочек, в колготках, бросился к нему в комнату. Все обошлось, боль утихла. Через некоторое время дедушка закричал снова, и опять я вскочил с кровати, чтобы бежать к нему и дежурившей возле него бабушке. Оба раза в голове моей вспыхивало одно-единственное слово — магнитофон.
Не могу точно сказать, какое чувство пряталось в этом слове. То ли я думал, что вот дедушка умрет и магнитофон достанется мне, как было обещано; то ли боялся, что он умрет, а магнитофон мне не достанется; то ли волновался, что умрет и бабушке будет не до магнитофона. В любом случае за дедушку я не боялся. Я чувствовал себя участником волнующего действия, которое может стать еще более волнующим, и волноваться было интересно. Мне нравилось бежать, встревожено врываться, спрашивать: «Что случилось?!» Это было словно игра, и только магнитофон был реальностью. То, что дедушка может умереть, не пугало меня. Это моя смерть увела бы меня на страшное кладбище, где я лежал бы один под крестом, видел бы темноту и не мог бы отогнать евших меня червей. Это маму могли убить, и она пропала бы из моей жизни, навсегда унеся из нее ласковые слова. А что будет, если умрет дедушка, я дальше магнитофона не видел. Дедушка с бабушкой были обстановкой, вроде шелестевших за окном деревьев, об их смерти я никогда не думал, не представлял ее и поэтому не знал, чего же в ней бояться.
Ознакомительная версия.