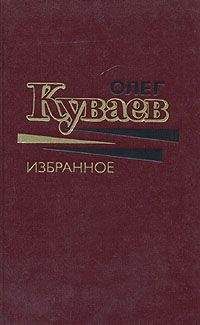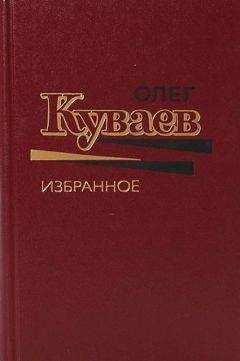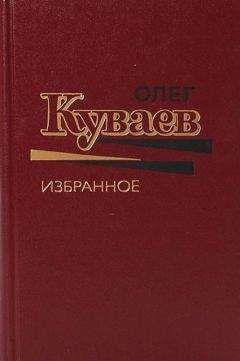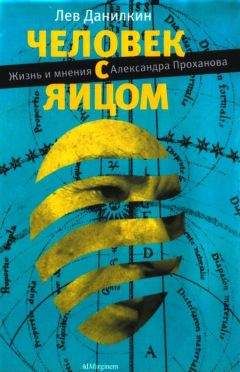Северьян и Поручик кинулись к нему, как малые дети, но где-то на полдороге застеснялись и чинно протянули ладошки.
– Рыбачить со мной будете? – сразу спросил Мельпомен.
– С удовольствием, – сказал Поручик.
– А то! – сказал Северьян.
– Тогда таскайте. – И Мельпомен первый полез обратно в фюзеляж. Оттуда полетели мешки с сетями, связки наплавов из пенопласта, нанизанные, как бублики, проволочные кольцевые грузила для сетей. Затем Мельпомен лично вынес два плотницких топора с калошами, надетыми на острия.
– Да ить топоры-то! Да неужто мы тут без топоров живем! – донесся возглас Северьяна.
Они перетаскали все это к аэропортовской избе и затем стали выносить пачки связанных проволокой досок. Даже я видел, что это очень хорошие, отборные доски, распиленные и просушенные надлежащим образом, что в них нет сучков, трещин, косых слоев и так далее. Северьян таскал эти пачки, как ценности. По-моему, руку мне он жал куда менее бережно. Поручик вынес замотанный в старую телогрейку подвесной мотор. Мельпомен вымел веничком оставшийся мусор, стряхнул его на аэродромное железо и сказал в пространство: «Все! Прилетел я, ребята!»
А аэродромные ребята уже щупали кольца-грузила, лезли в мешки с сетями, ковыряли пенопласт наплавов, и было видно, что в каждом из здешних сидит рыбак и они отчаянно завидуют Мельпомену – вольному человеку, который сменил мундир юриста на почтенный рыбацкий труд.
Мельпомен поздоровался с ними со всеми по-дружески, вежливо. Неожиданно появился Саяпин. Его неделю назад вывезли из стада вертолетом. Как и Мельпомен, он был в коротком полушубке и коротких резиновых сапогах. Была в них похожесть.
– А-а! Праведник объявился, – сказал Саяпин. Он как-то нехорошо улыбался.
Мельпомен вскинул голову: «И ты здесь? Ну-ну!» Саяпин отвернулся и полез наверх, к метеорологам. Пойдемте, я отведу вас в приготовленное жилье,– вежливо сказал Поручик.
– Избу уж натопили. Ждем, – бухнул Северьян. Мельпомен оглядел сети, прошелся как-то по лицам аэропортовских, поднял голову на будочку метеорологов, куда улез Саяпин, и сказал:
– Сети, грузила надо с собой прихватить. И доски. Аэропортовские рассмеялись.
– Да бери нашу машину. Вон Дядьвась идет. Дядь-вась! Подкати телегу, будешь все лето с рыбой!
Дядьвась издали оценил обстановку – бывалый северный человек – и пошел заводить грузовик.
Какая собака, когда пробежала между Саяпиным и Мельпоменой?
Что за Боря № 2 возник между мной и бывшей женой?
Что было между матерью и умершим отцом?
Не знаю. Лучше о другом.
К примеру. Я видел счастливых людей.
Я видел счастливых людей под яростным солнцем конца мая на Севере. На берегу протоки, подходившей к проселку, Мельпомен организовал свой рыбацкий стан. Тут была верфь для лодок, и колья для растягивания сетей, и котел для смолы, и тут неизменно горел костер с неизменно висящим над ним чайником.
Северьян в своем свитерке из груды лиственниц вырубал кокоры для лодочных шпангоутов, Мельпомен сортировал доски, а Поручик с цигаркой в зубах перемещался меж полотнищ сетей и штопал разные малые дырки. Не знаю, как на лесорубной работе, но здесь Поручик вовсе не походил на человека, который когда-то в Вене пил кофе со сливками. Это был небритый, худощавый малый в грязноватой рубашке, обвисших брезентовых штанах, и лишь взгляд у Поручика оставался прежним: виноватым, внимательным, ласковым и все понимающим одновременно. Он был здесь на месте. Северьян бубнил что-то нечленораздельное, крушил листвяк, по-моему, больше пальцами, чем топором, а Мельпомен с первородным изумлением говорил: «Вот доска, так это доска-а! Мы ее на борт пустим».
А однажды я увидел, что они работают вчетвером. Четвертым был Рулев. Он присоединился к Поручику и штопал сети с не меньшей сноровкой, чем тот. Они работали и изредка обменивались взглядами, и я даже возревновал Поручика, ибо раньше лишь мне Поручик выражал взглядом тайное родство и сходство наших заблудших душ.
Рулев проработал весь день и к вечеру был обгорелым от солнца, точно вернулся с Кавказа. Он сидел у окошечка нашей комнаты, смотрел в синеватый свет за окном и вдруг сказал:
– А ну бы все к черту! – И сам себе ответил: – Нельзя!
Я вжился в роль рулевского секретаря и знал, когда не надо к нему лезть с разговорами. Посему я молчал, делал себе конспектик работы.
– А Мельпомен наш с бо-ольшой заносцей мужик, – сказал Рулев добрым голосом, я чувствовал, что он улыбается. Я видел на фоне окна рулевский профиль. Я вдруг заметил, что он отяжелел со времен нашего знакомства, не было той городской обаятельной легкости. И умные залысины Рулева как-то раплылись, стали шире, и отяжелели щеки. И как бы чувствуя мои мысли, Рулев сказал сам себе, это уж точно:
– Директор! Да!
И снова передо мной поплыло солнце, и три фигуры на берегу протоки, и дым костра у воды и… наверное, тогда я и заснул.
Проснулся я утром. Я спал, положив голову на стол. Прежде всего я взял бутылку и рюмку и вынес все это в мусоропровод. И лишь потом увидел записку на холодильнике: «Несколько дней поживу у подруги. Давай разойдемся по-человечески. А по-человечески – это значит на моих условиях. Лида».
То лето мне представляется бесконечным, длинным, как день, когда ты поднялся в шесть утра, не имея определенного плана и цели. И, ложась в двенадцатом часу ночи спать, ты думаешь о всяких непредвиденных событиях, которые произошли, и о том, что бывают удивительно длинные дни, и о всяком другом.
Например.
Как историк, занимающийся колхозным строительством и Арктике, и видел ликвидацию последнего единоличника. Может быть, это был последний сельский единоличник в государство.
Я не знаю, какими путями Саяпин нащупал летний маршрут стада Кеулькая. Может, просто логикой. А когда логика сопряжена с вертолетом, все становится проще.
Когда я прилетел, они уже получили разрешение. Ждали лишь вертолет. И, видимо, позади были какие-то крепкие споры. Я понял это по официальным отношениям между Саяпиным и Рулевым и по тому, что случилось дальше.
Мы вылетели втроем. Саяпин, Рулев и я. Рулев счел необходимым взять меня. Саяпин на это только хмыкнул.
– Фотоаппарат пусть захватит, – сказал он Рулеву, хотя я стоял рядом.
– А я снимать не умею, – сказал я. – В жизни в руках не держал фотоаппарата.
Саяпин вздохнул, и во вздохе этом было: «А что ты вообще-то умеешь?»
Мы вылетели в восемь утра. Дырчатая железная полоса аэродрома была мокрой от ночного дождика. Лиственницы за взлетной дорожкой уже начали желтеть, и где-то в глубинах их ползли тихие клочья тумана. Была тишина, птицы почему-то молчали, и из колхозного поселка доносились резкие и редкие человеческие голоса. Потом вдруг резко затрещал пускач, и тотчас мирно и убаюкивающе заклокотал дизель – это опробовали поселковую электростанцию. Дизель и все оборудование для нее завезли самолетами, и вместе с тяжелыми замасленными ящиками прибыли два новых жителя – один специалист по установке этих малых электростанций, в меховой куртке, и еще трясущаяся личность – будущий дизелист, которого Рулев подобрал, по своему обыкновению, на какой-то человеческой свалке.
Вертолет оглушительно дребезжал. Я сел на скользкую металлическую лавочку, тоскливо посмотрел на красную надпись «Не курить» и прильнул к иллюминатору. Вертолет вначале пошел косо, как лист, гонимый осенним ветром, потом выровнялся. Внизу была наша Река. Она блестела десятками проток, зеленела островами, и дальше шли серые сухие русла, тайга, а еще дальше желтая, заросшая осокой равнина с рыжими пятнами марей, где-то на одной из них Щербаковская заимка, а еще дальше уже синели голые хребты.
Мы шли над рекой, и где-то минут через десять я, честное слово, увидел рыбацкий стан Мельпомена – две четкие палатки на берегу тихой и гладкой заводи, был дым от костра, и по заводи, как водяной жучок, двигалась моторка, и от носа ее разбегались усы. У меня вдруг кольнуло сердце от той тишины. Там, внизу, людей я, конечно, не успел рассмотреть, но увидел дым костра, потом все это исчезло, и остался лишь железный грохот.
Саяпин вынул из-за пазухи сложенный лист карты, посмотрел на него и по железной лесенке полез наверх, в кабину пилотов. Рулев полулежал на своей металлической лавочке и не смотрел ни на меня, ни на ноги Саяпина, торчавшие из кабины на лесенке, ни в иллюминатор. Он смотрел в трясущийся металлический потолок.
Через полчаса вертолет снова накренился. Река исчезла. Под нами осталась тайга, сверху она была совсем рыжей, и чем дальше, тем рыжее, ее прорезали какие-то малые ручейки, они были сверху серыми от гальки, и в серости этой изредка отблескивала вода. Я все смотрел, смотрел, пока не зарябило в глазах, потом отвернулся, а когда посмотрел снова, то мы уже шли вверх, под нами был черный и серый от лишайников камень хребта. Кое-где в хребты врезались широкие цирки верховьев ручьев, и они были ярко-красными. Я знал, что это от полярной березки, которая краснеет от увядания.