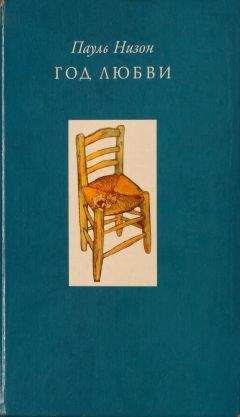— Я так ждала тебя, так радовалась, — сказала жена, когда они со Штольцем наконец-то остались вдвоем у нее в комнате. — Так радовалась, а теперь даже дотронуться до тебя боюсь. Ты прямо как чужой. Ни единого словечка мне до сих пор не сказал! Небось и не заметил. Меня так и подмывало крикнуть: ну пожалуйста, скажи хоть одно человеческое слово! Не лицо, а каменная стена, и ты прячешься за нею.
Она провела ладонью по его лбу и подошла близко-близко, так что их лица соприкоснулись. Голубизна ее глаз бурлила, но, может быть, Штольцу просто почудилось, ведь на таком близком расстоянии ничего не увидишь.
— Я правда не знаю, что со мной творится, — пробормотал он, обращаясь больше к себе, чем к ней. — Такое ощущение, словно я был в отъезде долгие годы. Наверно, оттого, что я здесь в чужом краю. Ничего, все уладится.
Они зашли в соседнюю комнату — посмотреть, как там малыш, потом поодиночке наведались в ванную. В постели сперва неподвижно лежали рядом. А потом крепко прижались друг к другу, словно боялись потеряться.
В понедельник, после нудного воскресного дня с невыносимо долгими трапезами и застольными беседами, Штольц проснулся, как ему показалось, среди ночи. Увидев, что уже шестой час, он оделся и собрался в дорогу. Разбудил жену и сказал, что больше спать не может, а перед отходом автобуса хочет прогуляться. Попросил передать привет родителям, сам-то их не дождется, гонку себе устраивать неохота. Поцеловал жену, на минутку подошел к постели малыша и вышел из дома.
У вокзала стояли автобусы, и на темной холодной площади, как ни удивительно, уже царила изрядная суета. Штольц зашел в вокзальный ресторан, заказал завтрак. Возле одного из столиков сидел молодой, весьма элегантный негр, который то и дело подзывал усталого официанта. Потом вошли двое парней, один бережно, словно сырое яйцо, нес в руках маленькую картонку. Когда они сели, Штольц разглядел, что это карманные шахматы. Не поднимая глаз, оба продолжили партию.
После завтрака Штольц сразу вышел на площадь. Хотя было еще слишком рано, сел в пустой автобус и вскоре задремал. Сквозь дрему он отмечал, что салон мало-помалу наполняется пассажирами, но по-настоящему не просыпался, так как народ молча рассаживался по местам, мечтая поскорее вернуться в сон, прерванный ни свет ни заря. Когда автобус тронулся, Штольц снова погрузился в грезы, где-то на грани сна и яви. То ли спал, то ли дремал, однако же вполне сознавал, что дремлет. Кемарил, и в этом полутрансе что-то в нем вдруг заговорило, он слушал свой голос, слушал свои слова и одновременно знал, что спит.
«У кожи кислый запах, — произнес его голос, — особенно в соединении с металлическими стержнями, и вообще, когда ее бывает сразу так много, как в междугородном автобусе, немецком автобусе, предназначенном для рабочих и студентов, которые спозаранку, еще затемно, едут по своим делам, а вечером возвращаются обратно. Всегда в темноте, особенно зимой, конечно, когда дни такие короткие. Всегда темно и когда я еду туда, где мне, собственно говоря, ничегошеньки не нужно. Сижу как приблудный в этой компании, укрытой в высоких креслах, но оттого тем более ощутимой. В автобусе, внутри которого почти темно. Только шофер там впереди — на работе, а мы все — просто пассажиры, целая «комната» пассажиров, отрешенные, рассеянные люди тонут в своих креслах, тонут в коже, каждый сам по себе, в ожидании. Ведь и не то чтобы совсем темно — снова и снова мелькают фонари, бросают внутрь тусклый свет, мелькают и какие-то еще толком не понятные отсветы, блуждающие, нет, летучие огоньки. И все это на ходу, когда нас то прижимает к спинке, то втискивает в сиденье. Пассажиры все до одного заключены в своих отдельных купе, изолированы: спереди и сзади — спинками; с боков — невысокими подлокотниками, да, с боков все же есть ощутимое, изредка отвлекающее соседство.
Впрочем, я забыл, что темноту сопровождает тишина. Первоначальный гул голосов вскоре замирает, так как он бессмыслен в шуме мотора, вообще среди движения, которое очень быстро убаюкивает. И потом, в таких рейсах обычно включают радио, музыку — музыка из динамиков в длинной кишке салона! — так что мы сидим впотьмах и опять же в тишине, как раз по причине шума. Каждый сам по себе и все вместе в этой кишке, среди тарахтенья динамика, чья музыка смешивается с шумами езды, а на поворотах слабеет, улетает прочь, как мне представляется.
Вообще странно чувствуешь себя в этой кишке на колесах. Я спокойно могу мыслить езду как абсолют, могу отсечь отправную точку и назначение — и вот уже мы просто парим, плывем куда-то в дирижабле, что мчится над самой землей.
Вот жалость, соседний подлокотник, как назло, ожил. Это вторжение, потому что я разом проснулся, настороженный и любопытный к этому соседу сбоку, я не вижу его, но плечом чувствую его плечо. Он вспугнул меня, кожаное кресло утратило защищенность, теперь оно как седло. Теперь я поневоле думаю о том, как выйду из автобуса. О доме. Мне страшно вернуться туда, словно в первый раз. Страшно, что все сузится до реальности одного этого дома, куда я должен войти. Скоро меня выставят из автобуса, снаружи будет по-прежнему мрачно, просторно и нескладно, автобус покатит дальше, и слабеющий рокот мотора только подчеркнет тишину и сиротливость. Этот дом, невольно думаю я, теперь все мое пребывание там — "этот дом”; лощина и ручей, который дал ей имя, и лес, и лесистые гребни, что окружают и стискивают лощину, и люди — все они тоже "этот дом”, где воняет колбасными консервами и кишмя кишат мухи. Видмайер, милый, помоги!
Теперь в шуме езды появилась резкость, лязг стал громче, назойливее, потому что пассажиров изрядно поубавилось, да и шофер уже настроился на беззаботный лад, а значит, близок конец маршрута. Курит за рулем. Я прижимаю лицо к окну, хочу знать, где мы и сколько у меня осталось времени. Но различаю в стекле лишь собственное отражение. Опустевший автобус мчится как поезд и немилосердно трясется, словно товарный вагон или телятник, сиденья и штанги дребезжат. Что же это такое с автобусом? Глядишь, еще проскочит нужный поворот. Ведь давно пора быть на месте. Я вообще потерял ориентацию. Стой! — кричу. Водитель, стой! Я вовсе не в автобусе. Я парю. В стеклянной капсуле. Парю в белой мгле. Кабина прозрачна. Сквозь стекло стен я вдыхаю снег и льдистый воздух. Какая тишина. Склон плавно понижается, и лишь поэтому я замечаю, что движение не прекратилось, прикидываю протяженность спуска. Холм, снежный холм. Все окрест тихо и бело. Далеко внизу собака, бегает кругами. А вон ребятишки возятся в снегу. Догоняют собаку. Среди них толстый малыш. Мой сынишка…»
На этом месте Штольц рывком, вынырнул из своего сумбурного фильма. Под конец он наверняка впрямь уснул, так как не сразу сообразил, что с ним происходит. Пассажиров в автобусе осталось раз-два и обчелся. Штольц узнал окрестности. Совсем скоро ему выходить.
Когда он, одиноко шагая по дороге, увидел впереди огни Гласхюттенхофа, его захлестнули тепло и благодарность к этому дому и его обитателям, составившие резкий контраст страхам его сновидений. «Я будто домой вернулся», — сказал он себе,
В последующие дни и недели Штольц прямо-таки сроднился со своими хозяевами. О научной работе вспоминал лишь мельком, а если и думал о ней, то без угрызений совести. Все связанное с этими планами стало ему безразлично, да и прежняя жизнь тоже мало-помалу уходила из его помыслов. Все это было далеко-далеко и будто отрезано. Если ему изредка приходили на ум покинутый кров, жена и ребенок, комната с синим столом, злодей Шертенляйб у окна, то думал он об этом как посторонний. Видел все перед собой, но оставался безучастен. Уже не мог себе представить, чего ждал поздними вечерами и в ночных бдениях перед отъездом в Шпессарт. Теперь он больше не ждал, не ощущал ни тоски, ни жадного предвкушения.
Видмайеры никогда не расспрашивали его о работе, хотя наверняка заметили, что занятия свои он забросил. Вставал поздно, завтракал внизу у хозяйки и шел во двор, к Видмайеру.
Иной раз и помогал ему. К примеру, однажды ночью, когда поросилась хрюшка Ильза, вместе с хозяином дежурил в хлеву. Ильза лежала на левом боку и дышала неровно, с усилием выталкивая из себя воздух.
— Хорошо лежит, — похвалил Видмайер.
Наконец по телу свиньи пробежала дрожь, потом она скорчилась, с громким хрюканьем приподнялась на передних ногах, а секунду спустя раздался хлюпающий шлепок, и на соломе очутился первый поросенок. Хозяин перегнулся через загородку и левой рукой бережно подхватил скользкое существо. Освободил ему пасть и нос от плодной оболочки — так он объяснил Штольцу, — затем жениными ножницами перерезал пуповину и смазал разрез йодом. После чего положил брыкающегося и повизгивающего поросенка обратно в загородку. Процедура повторялась снова и снова, на протяжении нескольких часов. У Штольца мерзли ноги, холод подбирался к коленкам, однако ж скучать он не скучал. Стоял в низком свинарнике, испытывая приятное напряжение, разговаривал с Видмайером и все это время смотрел на свинью с ее выводком, с этой кучкой бестолково копошащихся голых поросят. Порой Ильза завлекательно похрюкивала, и поросята хватались за соски.