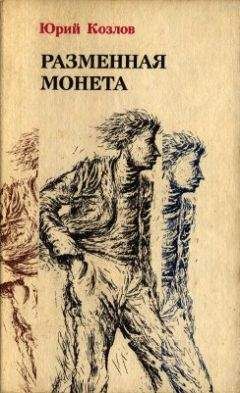Анна Степановна не знала, что и думать. Слишком уж происходящее напоминало то, что прежде Фёдор проклинал, кричал, что скорее сдохнет, чем пойдёт на такое. Он столь ярко живописал механику поэтапного создания мнимых авторитетов, что Анна Степановна верила, так, наверное, оно и есть. Она никогда не отказывала Фёдору в наблюдательности, остроте ума. У него не было идеалов, но это другая тема. Анна Степановна подумала неожиданно, может, потому Фёдор и злился, что втайне мечтал о подобном пути, да только не было рядом кто бы решительно подвигнул, взял на себя черновую работу. А сейчас есть.
Она внимательнейшим образом прочитала новые рассказы Фёдора, отыскала забытый им при переезде экземпляр пьесы. Рассказы показались средними. В пьесе была сильная сцена — как героя затащили в милицию, приписали бог весть что. В остальном это была обычная современная пьеса с кукишами в кармане насчёт очередей, персональных машин, дополнительных благ, получаемых руководящими работниками (кстати, сам Фёдор ничего не имел против, когда она приносила продукты), разгулом спекулянтов и торговой элиты, трудностей, с какими сталкивается пробивающийся талант. Что же случилось? Фёдор писал как прежде, только сейчас это вдруг стало преподноситься как откровение. «Значит… макет? — подумала Анна Степановна. — Но он же кричал, что ему это ненавистно. Ненавистно было, когда делали другие. А тут, скажет, заслуженная слава… Неужели Фёдор сделался макетным человеком? А может, и был всегда? Просто долго не подпускали…» Анна Степановна поняла, что освободилась от Фёдора. Больше она не будет думать о нём.
…Изданная в середине тридцатых годов на русском языке в панской Польше, книга повествовала о полесском захолустье, где в убогом городишке, на раскиданных среди лесов и болот хуторах жили в неестественной этнической тесноте: поляки, белорусы, русские, литовцы, евреи, румыны, изгнанные из Трансильвании немцы, мадьяры, цыгане, крымские татары, выстроившие на острове посреди болота мечеть, заядлые кальянщики и многожёнцы. То был причудливый, на грани безумия, мир, где по ночам над полями, лесными дорогами всходила огромная луна, зловеще скрипели ставни, внезапно останавливались часы. В неурочное время из костёлов доносились хриплые петушиные крики. По утрам на шеях волов обнаруживали следы от зубов вампиров. Все запирались друг от друга на засовы, но все всё про всех знали. Все трудились в поте лица, однако выбраться из нищеты не могли. На дворе стоял двадцатый век, близилась вторая мировая война, но цивилизация обходила этот край стороной. Тут свято верили в нечистую силу, и она слеталась на эту веру, как на мёд, нечистая сила всех народов, религий, стиснутых в углу Полесья. Дня не проходило без чудес, а однажды блаженная, немая от рождения, цыганская девочка, которую из милости кормили по очереди в каждой семье, возвестила утробным, леденящим кровь голосом, что место это — делянка дьявола, неузнанный, бродит он среди поселян — склоняет к греху, искушает, вводит в неистовство…
Феликс долго не мог уяснить, чем мила ему эта галиматья, что ему за дело до патологической полесской братии? А потом неожиданно подумал, что болезненный, фантасмагорический бред — это пародия на человеческий мир с его надеждами, страстями, глупостью, страхом, вечным несовершенством. «Но даже в пародии, в насмешке должен быть смысл, — растерялся Феликс, — не может же он заключаться в том, что в жизни смысла нет и быть не может?»
Он припомнил один случай. Этажом выше жил художник Белкин. Белкин был на три года старше Феликса, учился в Академии художеств на живописца. У него была богатая чёрная борода, выпуклые блестящие глаза — вроде бы добрые и понимающие, но в то же время какие-то агрессивные. Белкин бесподобно говорил об искусстве. Мог начать издалека — как неандертальцы малевали на стенах пещер белые и чёрные пятна, а египтяне создавали точечные изображения рыб — и, не умолкая, дойти до современности. Феликс слушал, разинув рот. Вот только картины Белкина совершенно ему не нравились. Частично Белкин был абстракционист, частично примитивист. Феликсу же почему-то казалось, что всё это чушь, что и он, если захочет, сумеет рисовать точно так же, даже лучше. Вероятно, то были мещанские мысли, воинствующее бескультурье. Раз они шли с Белкиным проходными дворами. В одном доме был капитальный ремонт. Меняли сантехнику, возле стены возвели пирамиду из битых унитазов. Мальчишки швыряли в них камнями. Тут же валялись неисчислимые проржавевшие трубы. Белкин вдруг остановился, задумчиво уставился на унитазы. «Ты когда-нибудь видел сразу столько много?» — спросил у Феликса. Тот пожал плечами. «Чушь, мусор, — напористо произнёс Белкин, — но какой философский смысл! Эта гора может вдохновить меня на создание произведения искусства».
Феликс тогда ничего не ответил Белкину, тут же забыл про разбитые унитазы, а сейчас подумал, что сам недалеко ушёл. Белкина вдохновляли унитазы, Феликс без конца перечитывал жуткую книгу. Ему было трудно объяснить, в чём тут изъян? Суть его заключалась в том, что не может честному, справедливому человеку нравиться подобная книга, не может настоящее произведение искусства родиться из созерцания горы битых унитазов. Феликс чувствовал, что в основе творчества, да и просто повседневной жизни должно лежать что-то иное, нежели сумасшедшая книга, гора битых унитазов, вера в то, что в жизни смысла нет и быть не может. Но тогда что? Умом Феликс понимал: побуждения, стремления, благие не только в понимании конкретного человека, скажем, Белкина или Феликса, но общее для всех людей. Что за дело всем до битых унитазов? Разве что некоторые в приличном состоянии, и менять всё чохом не по-хозяйски? Или кто-то ночью утащит унитаз, да и установит, допустим, у себя на даче. Только к искусству, к духовной жизни это не будет иметь отношения. Следовательно, Белкин — плохой художник, картины его хороши лишь для него одного. Следовательно, Феликс — плохой человек, так как ему нравится без конца читать и перечитывать книгу, исполненную злости, изощрённого презрения к человечеству.
Феликс, Клячко и Суркова как-то, помнится, заговорили о народе, его благе. Каждый что-то сказал, но друг друга не поняли, к общему не пришли. Тема оказалась ускользающей, бездонной, далёкой и недоступной, как мираж. Феликса даже взяло сомнение: народ ли они сами, русские ли они? Вне всяких сомнений, они были русскими, но какими-то новыми: не знающими народных песен, танцев, ничего, в общем-то, не знающими. Да и не стремящимися узнать. Феликсу казалось, значение и смысл имеет только то, что происходит с ним, касается лишь его. Жизнь с ним началась, с ним же и закончится. Другого не дано. Так стоит ли забивать голову? Какой ещё народ, где он? Но где-то он всё же был, и Феликс был ничтожной его частицей. Феликсу не хотелось более быть не помнящей родства скотиной, хотелось принести хоть какую-нибудь пользу, вот только… неудобства не хотелось, а чтобы всё само собой. Хотелось свободы, но только… чтобы она сама вдруг взяла да пришла.
Серёга Клячко был горожанином в первом поколении. Отец его работал мастером на заводе, мать — в прачечной. Серёга мучительно преодолевал своё происхождение. Родителей не то чтобы стыдился, а как бы не считал за людей, терпел, как неизбежное зло. Говорить о них не любил. Поведению, манерам, одежде Серёга придавал гораздо большее значение, чем Феликс. Как вызов, носил волосы на прямой пробор, менял через день рубашки, ровнял пилочкой ногти, чего Феликс отродясь не делал. Одним словом, Серёга стремился быть аристократом, как он сам это понимал, конечно. Когда речь заходила о народе, о том, что для него хорошо, что плохо, Серёга раздражался, как и всегда, когда его вынуждали рассуждать о вещах отвлечённых, не имеющих для него значения. «Что ты заладил: народ, народ! Под себя каждый гребёт, вот и всё его благо! А на остальное — плевать, лишь бы водочка не переводилась!» Феликсу казалось, Серёга злится ещё и потому, что этими разговорами Феликс как бы возвращает его к тому, что Серёга отринул, с чем навсегда распрощался. У Серёги были большие планы. Но даже допустив мысль, что они сбудутся, Серёга добьётся своего, можно было не сомневаться: он не вспомнит про родителей, про жизнь, из которой вышел, жалость к людям не шевельнётся в нём. Поэтому, выступи даже Серёга в образе знаменитой кухарки, которая, поучившись, сможет управлять государством, управление его вряд ли пойдёт на пользу народу, от которого он сознательно, едва научившись самостоятельно мыслить, поспешил откреститься.
У Кати Сурковой отец и мать были медиками. Она с интересом слушала горячие речи Феликса, убийственно-скептические возражения Серёги, но Феликса не поддерживала, с Серёгой не спорила. Всё это, наверное, казалось ей игрой. Иногда она рассказывала про какие-то жуткие случаи в больницах, должно быть, узнавала от родителей. Там вместо кислорода оперируемому дали углекислый газ и потом недоумевали: отчего это он помер? Там — всё лето обслуживали целое инфекционное отделение шестью (!) иглами, которые к тому же плохо дезинфицировали. У Феликса с Серёгой волосы дыбом вставали. Й ещё однажды Катя призналась, что, когда слышит по радио или телевизору песню: «У нас было на святой Руси. На святой Руси, в каменной Москве…» — отчего-то ей… плакать хочется. Клячко усмехнулся. Катя покраснела, засмущалась: «Когда как, конечно. Иногда и не хочется!» Она вдруг сделалась Феликсу бесконечно родной, но он вспомнил про Наташу, и у него испортилось настроение. «С Серёгой всё ясно, — подумал Феликс, — с Кати какой спрос? Но я сам? Что я сам-то?»