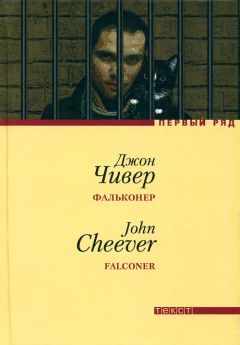Ну, да тебе, конечно, все это покажется вздором. Для меня не секрет, что ты предпочел бы, чтобы твоя мать больше походила на обычных матерей — тех, что вечно посылают своим детям сладкие домашние пироги и помнят их дни рождения… Впрочем, мне кажется, что мы недостаточно пытаемся понять, изучить друг друга, мы чересчур осторожны и робки. Всякий раз, когда мы делаем попытку проникнуть человеку в душу, — а ведь к этому одному мы и стремимся, не правда ли? — всякий раз нам кажется, будто нами руководит беспощадная честность отчаяния. В действительности же мы всего лишь возводим искусственную модель приемлемой для нас реальности, упорно отказываясь принять реальность подлинную, ту, что существует на самом деле.
А теперь, прежде чем кончить это письмо, я заставлю тебя еще немного поскучать и поделюсь еще одним наблюдением. То, что я хочу сказать, должно быть прекрасно известно всякому путешественнику, и вместе с тем я не решилась бы поделиться этим с самым близким другом из боязни, что меня примут за сумасшедшую. Но так как ты и без того считаешь меня сумасшедшей, я ничем не рискую.
Итак, я заметила во время моих странствий, что каждая постель, какую мне доводилось занимать в гостинице или пансионе, обладает своей атмосферой и что каждая имеет глубочайшее влияние на мои сны. Все мы оставляем отпечаток своей личности, своих настроений и желаний в тех местах, где нам случается заночевать. Это факт бесспорный, чему я имею более чем достаточно доказательств. Прошлой зимой, когда я была в Неаполе, мне однажды приснилось, будто я стираю целый гардероб нейлоновых вещей (а это, как ты знаешь, со мною случиться не могло — ведь я никогда не ношу синтетики). Сон был удивительно реален — я видела, как висят платья под душем, и ощущала запах мокрой материи, а между тем это не могло быть памятью чего-то пережитого мной наяву. Проснувшись, я почувствовала, что меня окружает атмосфера, совершенно непохожая на мою собственную, атмосфера застенчивости, целомудрия и душевной чистоты. В комнате явственно ощущалось чье-то присутствие. Наутро я спросила регистратора, кто занимал мой номер до меня. Заглянув в свою тетрадь, тот сообщил, что в нем спала мисс Хэриет Лоуэл, американская туристка, которая переехала в другой, меньший номер. Да вот она сейчас выходит из ресторана, прибавил он. Я повернулась и в ту же минуту увидела мисс Лоуэл, чье белое платье я стирала во сне и чей застенчивый, целомудренный и ясный дух еще витал в оставленной ею комнате. Ты, конечно, скажешь, что это простое совпадение. Но вот тебе еще один случай. Некоторое время спустя, на этот раз в Женеве, я очутилась в постели, от которой исходила такая гнусная, насыщенная эротикой атмосфера, что сны мои были просто омерзительны. Я видела двух голых мужчин, причем один из них сидел верхом на другом. Утром я спросила регистратора, кто был в этом номере до меня. „Oui, oui, deux tapettes“[4], — сказал он. Они подняли такую возню, что их попросили оставить гостиницу. После этого я взяла себе за обычай всякий раз, когда мне доводится ночевать в гостинице, угадывать, кто занимал мой номер до меня, и сверять затем свои догадки с регистратором. Каждый раз — если регистратор шел мне навстречу — оказывалось, что я угадала правильно. Когда номер занимали проститутки, регистраторы обычно уклонялись от ответа. Если я обнаруживала, что от моего ложа не исходит никакой специфической атмосферы, я полагала, что номер пустовал неделю или, быть может, дней десять. И никогда не ошибалась. Весь тот год, что я провела в странствиях, мне доставались сны бизнесменов, туристов, супружеских пар и проституток. Самое замечательное случилось весной в Мюнхене.
Я остановилась, как всегда, в „Бристоле“, и мне приснилась соболья шубка. Я, как ты знаешь, терпеть не могу мехов, но эту шубку я видела во всех подробностях — покрой воротника, золотистые шкурки, желтый шелк подкладки, а в одном из шелковых карманов — обрывки двух билетов в оперу. Утром, когда горничная принесла мне кофе, я у нее спросила, была ли у женщины, занимавшей мой номер до меня, меховая шубка. Девушка всплеснула руками и, воздев глаза к потолку, сказала: „О да!“ По ее словам, это была шубка из настоящих русских соболей, самая прекрасная шубка, какую ей доводилось видеть. И обладательница шубки, по-видимому, очень ее любила. Прямо как любовника. „А эта женщина, с шубкой, — спросила я, помешивая кофе и пытаясь не выдать своего волнения, — не ходила ли она в оперу?“ „О да, да, — сказала горничная, — она приехала на Моцартовский фестиваль и в течение двух недель каждый вечер надевала свою шубку и отправлялась в оперу“.
Меня это не слишком удивило — ведь я и прежде знала, что в жизни очень много таинственного. Согласись, однако, что я имею неопровержимые доказательства тому, что мы оставляем частицу своей личности, своих снов и своего духа в комнате, в которой спим. Да, но какая мне польза от этого знания? Если бы я поделилась с кем-нибудь из друзей, меня сочли бы сумасшедшей, да и в самом деле, какой толк в том, что я могу угадывать, кто спал до меня в данной постели — старая дева или проститутка, или что постель эта пустовала некоторое время? Обладаю ли я особым даром или это феномен, знакомый всякому путешественнику? Да и можно ли называть способность, которой нельзя найти никакого практического применения, даром? В конечном счете я решила, что универсальный характер наших снов включает все — и одежду, и билеты в оперу. А раз так, раз мы знаем друг друга так близко, быть может, мы гораздо ближе, чем кажется, к воцарению мира на земле?»
Я рос у бабушки в Ашбернеме и учился в местной школе. Лет до десяти или одиннадцати я ел на кухне, потом меня стали сажать вместе со взрослыми за большой стол. Почти каждый день у нас бывали гости. Я был в том возрасте, когда разговор взрослых кажется невыносимо скучным, и это, вероятно, было написано у меня на лице. Бабушка решила прочитать мне нотацию. «Теперь, раз ты уже достаточно большой, чтобы сидеть за общим столом, — говорила она, — я считаю себя вправе требовать, чтобы ты принимал участие в разговоре. По вечерам люди собираются за столом не только для того, чтобы пообедать, но и затем, чтобы обменяться мнениями, впечатлениями, новостями. Ведь каждый день чему-нибудь нас учит, правда? Каждый день нам удается увидеть что-нибудь новое, интересное. Наверное, и ты в течение дня узнаешь или замечаешь что-нибудь такое, что может оказаться интересным мне и моим гостям. Я хочу, чтобы ты участвовал в общем разговоре».
Я попросил было, чтобы меня перевели обратно на кухню, но бабушка пропустила мою просьбу мимо ушей. Я сильно робел, когда на другой день вышел к столу. За столом лилась оживленная беседа. И тут вдруг бабушка улыбкой дала мне знак внести свою лепту в общий разговор. Единственное, что мне в тот день запомнилось, это как какая-то дама воровала ноготки в публичном парке, когда я шел из школы домой. Заслышав мои шаги, она спрятала цветы под пальто. А когда я прошел мимо, принялась опять их срывать.
— Я видел даму в парке, — сказал я. — Она воровала ноготки.
— Это все, что ты видел сегодня? — спросила бабушка.
— Еще я видел, как играют в баскетбол.
Взрослые снова заговорили, но я понял, что провалился и что мне следует заранее готовиться. Мы проходили в то время древнюю историю, и я стал каждую ночь зубрить по две-три странички из учебника.
— Из всех греческих государств, что тянулись от берегов Черного моря до западных берегов Средиземного, — начал я на другой день, — ни одно не могло состязаться с Афинами. Заслуга же в этом принадлежала Периклу…
В следующий вечер я потчевал общество Солоном, а на третий — афинской конституцией. К концу недели бабушка добродушно сказала:
— Пожалуй, тебе лучше пока прислушиваться к тому, что говорят другие.
Бабушка была богата и жила в достатке всю жизнь. Это была довольно грузная и некрасивая женщина, но оттого что ей никогда не доводилось заботиться о деньгах, она до самой старости сохранила необычайно свежий цвет лица. Счастливое стечение обстоятельств, благодаря которому она никогда не знала нужды, избавило ее от одного из самых главных источников тревоги. Мы с ней отлично ладили, хоть порою я изрядно ей досаждал. Однажды — мне было лет двенадцать и я еще ходил в местную школу — бабушка ждала к обеду английского герцога по фамилии Пенрайт. Титулы ее волновали, и почему-то ее волнение по поводу приезда лорда Пенрайта меня злило. Узнав, что к столу подадут устриц, я отправился в город и купил огромную поддельную жемчужину. Я велел бабушкиной горничной Ольге вложить эту жемчужину в одну из устриц и, когда она будет подавать на стол, подсунуть ее на тарелку лорду Пенрайту. За столом собралось человек двенадцать. Все оживленно беседовали, как вдруг лорд Пенрайт воскликнул: «Вот так штука!» или «Ну и ну!» — словом, что-то в этом роде. И взяв пальцами жемчужину, показал ее всему столу. Я выбрал самую большую жемчужину в галантерейном магазине, при свете свечей она казалась перлом, не имеющим цены.