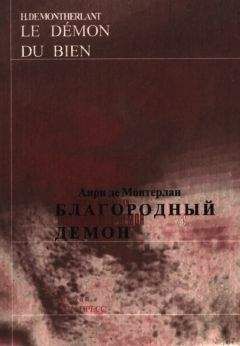Соланж вдруг вздрогнула и кивком указала в глубь гостиной, где виднелись желтые элегантные туфли и ноги кузнечика из-под развернутой газеты. Господин, читавший ее, был столь неподвижен и беззвучен, что они даже не заметили его. А Косталь по дурацкой привычке богемы, как всегда, не сдерживал свой голос. Он успокоил ее:
— По цвету лысины я вижу, что это англичанин. Он ничего не понял.
— А если он знает французский!
— Да нет же, не знает, — категорическим тоном возразил наш писатель.
— Ну, и какой способ убийства избрали вы для меня? — зашептала она со смехом, положив на его руку свою.
Косталь убрал руку. Он понял, что она никогда серьезно не воспримет его замысел — достаточно вообще не надевать маску, и все будут думать, что ты прикрываешься ею. (И сам множество раз играл в такую игру). Он вспомнил слова Мефистофеля в «Фаусте»: «Мелкие люди никогда не узнают черта, даже если он держит их за ворот». «Ладно, — подумал Косталь. — Во всяком случае, она предупреждена. И если сядет со мной в лодку, это уже ее вина, вина глупости. Ведь глупость в том и состоит, что не видишь очевидного». На ее вопрос: «Какой способ убийства избрали вы для меня?» ему хотелось объяснить, что сбросит ее с катера в море. Но, подумал он, если сегодня она и примет его слова за шутку, когда-нибудь под влиянием обстоятельств может вспомнить их уже вполне серьезно и не захочет отправиться с ним на морскую прогулку. Он умолк. (Может быть, в его молчании был и иной смысл: у героев бывает ужасное нежелание рассказывать о своих делах.)
— Знаете, — продолжала она, — мне хочется сказать вам одну вещь, но я боюсь вызвать только раздражение.
— Тогда не говорите. Мне совсем не хочется раздражаться.
— И все-таки скажу. По-моему, в ваших планах убийства слишком много от литературы!
— Забавно! Люди живут среди ужасов и мнимых ужасов. Если не сама жизнь, то, во всяком случае, газеты преподносят им подробнейшие описания. Но стоит литератору взять для себя что-нибудь из этого, его сразу обвиняют в «литературе». Не знаю, читали ли вы мой сборник новелл «Ловушка». В одном рассказе говорится о любви юных девиц и хозяйки пансиона. Критики подняли оглушительный вопль: растерянные лица, писки оскорбленной добродетели, слезы сожаления о моей судьбе. «Остается лишь посетовать, что г. Косталь выискал для себя столь тягостный сюжет…» Выискал! Как будто не достаточно лишь наклониться и поднять его! Словно не во всех женских пансионах за редким исключением… Столь тягостный! Во-первых, почему лесбиянство — «тягостный» сюжет? Во-вторых, должна ли литература заниматься только «приятными» сюжетами? «…и то, что он последовал, примеру г. Жида». Была нужда вообще следовать чьему-либо примеру! Как будто не достаточно посмотреть на самую обыкновенную жизнь! «Задаешься вопросом, где г. Косталь отыскал столь своеобразных героинь для своих злосчастных историй?» Где? Да среди вас же всех, идиот, и в тот самый момент, когда ты черным по белому возвещал о своем недоумении…
Еще и наполовину не выкурив сигарету, он держал между пальцами наготове следующую. Соланж уже знала эту новую привычку — все те восемь дней, когда его не отпускало нервное напряжение, он почти непрерывно курил. Прикурив от старой сигареты, Косталь продолжал:
— Когда романист далее и пытается не заходить так далеко, как сама жизнь (то ли по наивности, или из нежелания шокировать, или чтобы попасть в Академию и т. д. …), его все равно будут упрекать за то, что он неправдоподобен, все преувеличивает, изображает чудовищ и описывает «патологические случаи». Мадемуазель Дандилло каждое утро читает в газете о десятке убийств. Но когда об убийстве говорю я, это кажется ей столь невероятным, что она не находит другого объяснения, кроме «литературы». Можно подумать, что…
Косталь вдруг умолк. Старый господин встал и сделал четыре шага к ним, не глядя, словно бы их здесь и не было. Взял вместо «Таймс» «Дейли Кроникл» и возвратился на свой стул. Снова виднелась та же лысина цвета взбитых сливок, торчащая поверх раскрытой газеты. Соланж сказала:
— Газетные убийцы — обычно это озверевшие люди. Несчастные, которые живут в ужасных условиях. У вас с ними ничего общего, и я не могу представить вас в этой роли.
— Люди как шары на плоскости — неподвижны, если она горизонтальна. Наклоните ее, и они покатятся. Накануне убийства преступники ведут себя очень спокойно. Как вы думаете, если завтра на авеню Сен-Мартен появятся баррикады, я не буду убивать?
— Неужели у вас такие твердые политические убеждения?
— У меня их вообще нет — я приемлю все. Впрочем, политика не имеет ничего общего с революцией. Умный человек принимает ее лишь как возможность задавить людей, чьи лица ему неприятны.
— Но, что бы там ни было, убийства в гражданской войне и в мирное время совсем разные вещи.
— Отнюдь. Можно, например, убить совершенно незнакомого человека лишь за то, что у него другое мнение о забастовках. Но, оказывается, нельзя убить того, кто стал единственным препятствием не только к вашему счастью, но и к осуществлению ваших замыслов. Именно таким существом когда-нибудь можете оказаться для меня вы. Хотите еще кофе?
— Ну, а если вас поймают?
— Никогда, я везучий, — с уверенностью ответил он, хотя прекрасно знал, как опасно искушать судьбу. Но не смог удержаться от бахвальства, которое было у него почти физиологическим.
— И все-таки, если…
— Приговор будет минимальным, ведь медицинское обследование покажет, что я «психически неустойчив» и «сверхвозбудим». К тому же я давно позаботился об официальных свидетельствах своей ненормальности, которые хранятся в полиции.
— У вас все предусмотрено.
— И в конце концов появится умный министр и учует возможность заработать себе популярность — выхлопочет мне помилование как особо талантливому человеку.
Наступило молчание.
— Но если сейчас хоть один лучик рассудка подскажет вам, что я и на самом деле предполагаю убить вас, вы простите меня? — при слове «простите» на глазах у него выступили слезы. Сам он прощал множество раз, но не испытывал от этого ни малейшего удовлетворения. Здесь не было ничего, кроме все того же искушения добром, которое временами набрасывалось на него и увлекало с силой орла.
— Как же получается, что я могу думать о таком убийстве? — громко спросил он, не дожидаясь ответа Соланж. Но что бы она ни ответила ему, все было для него совершенно безразлично. Если бы сказала: «Да, прощаю», быть может, он даже раздражился бы. Хотя, возможно, ответила бы и «нет». Косталь продолжал: — Как странно, что я и люблю вас, и думаю о подобной крайности. Будто во мне два противоположных течения, подобно сталкивающимся у берега волнам — набегающей и откатывающей.
— Тише! — прошептала она. — Смотрите!
The old gentleman[28] опять пошел, не глядя, прямо к ним. Положив на столик «Дейли Кроникл», он взял «Дейли Мейл» и вернулся на свое место. Опять поверх газеты торчала лысина, розовая, как ледник на утренней заре.
— Это все неважно, уж слишком горячо вы защищаете саму идею убийства! Я восхищаюсь, что у вас своя собственная мораль, совершенно особенная, и при этом вы остаетесь порядочным человеком. Но лучше держать ее при себе, попади она в некоторые уши… Хорошо еще, что у вас нет сына…
Косталь почувствовал, как бледнеет. Она сразила его. Значит, весь труд обмана и сокрытия, который он вкладывал в самого себя, может быть за одну секунду уничтожен, и кем!.. Какая-то ничтожная блошка открывает его, как коробку.
— А чем уж так хорошо, что у меня нет сына? — спросил он переменившимся голосом.
— Так ведь если бы он услышал из ваших уст все эти теории…
Он со злостью посмотрел на нее.
— Будь у меня сын, я безумно хотел бы сделать его похожим на себя — против всех. — Голос Косталя прерывался, как у чихающего мотора. — И моя мораль стала бы его моралью, это было бы только на пользу. Чудо? Но ведь я и живу в ожидании чуда. Сегодня, через неделю, через месяц. Было время, когда я ждал и стремился к нему целыми годами. Но ведь чудеса происходят постоянно. Я и сейчас вижу их — таков мой дар — как можно увидеть Бога в горящем кусте. Иногда я даже устаю от одного чуда и жду какого-нибудь другого. Опять неделями и месяцами. Так продолжается уже пятнадцать лет, и мне это ничуть не надоело. А теперь поговорим о другом. Мы оба устали от этого сюжета.
Через час, взглянув на часы, он увидел, что они остановились, и подумал, а не от приступа ли ярости, когда Соланж сказала ему: «Хорошо еще, что у вас нет сына». Соприкосновение с возбужденным телом испортило механизм. У него уже не раз случалось такое.
Два дня перед отъездом Соланж оказались для Косталя довольно легкими. Во-первых, «оно вытанцовывалось», но была и более глубокая причина. Решившись на то, чтобы Соланж исчезла, если не будет иного выхода, он обезоружил саму идею женитьбы. А поскольку именно она служила главным препятствием между ними, его чувство к ней вспыхнуло вновь. (Один только пример: в ресторане он уже дней восемь усаживал ее напротив себя, а теперь попросил сесть рядом, и не столько для того, чтобы гладить и трогать, но просто чувствовать ближе к себе.) Женитьба, почему нет? Он попытается сделать ее счастливой на год, на два, как угождают тем, кто уже приговорен. «Что ж, у нее будет все-таки два года счастья» — эта фраза мадам Дандилло неожиданно приобрела для него особенное значение. Соланж не казалась больше чем-то ужасным, а была лишь приятной неопределенностью. С этой переменой ожило не только его физическое влечение, но теперь он не мог представить ее дебелой пятидесятилетней матроной. Ведь только от него зависело, чтобы она никогда не дожила до пятидесяти лет. Наконец, решение убить заставляло сконцентрировать все внимание, всю волю, всю изворотливость и самообладание, чтобы остаться безнаказанным, и это придавало ему уверенности: он вновь держал меч, выбитый ею из его рук. Какой легкой становится жизнь, если только захотеть!