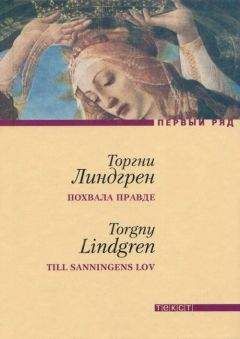Но тогда я знать ничего не знал. И Паула тоже.
В ее жизни это был один из самых замечательных и ярких вечеров.
Лишь через три часа после представления телохранители сумели вывести ее через заднюю дверь, она переоделась уборщицей: черный платок на голове и долгополое серое пальто — вылитая иммигрантка.
Останки Паулиной матери обнаружили только следующим утром. Едва разглядели среди пивных банок, окурков и грязных клочьев одежды. А личность ее полиция установила уже ближе к вечеру. Под сценой нашлась ее сумка, бутылка с вермутом была разбита, магнитофон украден; по маленькой фотографии, где она была вместе с Паулой, и по членской карточке Общества потребителей выяснилось, кто она такая.
Вообще-то фотография была фальшивкой, я сам помогал ее изготовить. Разрезал и склеил два снимка, сделал так, чтобы она обнимала Паулу за плечи, подретушировал зрачки и заставил обеих улыбаться друг другу. А потом она пересняла мой монтаж.
Я в тот вечер бездельничал. Кажется, вернувшись домой, почти сразу же лег в постель, не заходил ни в мастерскую, ни в магазин, немножко почитал «Путь шамана» Майкла Хорнера, послушал по музыкальному радио «Колыбельную для багдадского ребенка» Свена-Давида Сандстрёма. Паула не позвонит, это я знал.
Наутро я ходил по дому и старался обучить свою левую руку всему, что ей отныне надо уметь. Открывать двери и створки шкафов, выдвигать ящики мойки и поворачивать звукосниматель проигрывателя, тасовать карты и раскладывать пасьянс. Задачка не из простых.
О том, что происходило после обеда и вечером, я не могу рассказать так четко и ясно, как мне бы хотелось. Порой два события происходят одновременно и перемешиваются одно с другим, а оттого делаются непонятными и нереальными, взаимно уничтожаются, как числа с противоположными знаками, невозможно представить себе ни то ни другое, и хотя сам участвуешь во всем, что происходит, чувствуешь себя перенесенным невесть куда вовне, становишься смятенным наблюдателем. По-моему, Шопенгауэр писал об этом, только я не помню где.
Сперва позвонила Паула. А потом явился нежданный посетитель. Я ничегошеньки не понял.
Итак, позвонила Паула. Она была в Евле, через четыре часа выйдет на сцену. Портье в гостинице оставил ей записку с телефоном вестеросской полиции — оттуда звонили, разыскивали ее.
Голос ее звучал ясно и чуть суховато, как обычно, она четко и деловито объяснила, что случилось, — думаю, просто повторила услышанное от полицейских.
— Должно быть, все произошло так быстро, что мама ничего не успела сделать, — сказала Паула, — не поняла, что делается, и вряд ли мучилась.
Я сел на пол возле столика с телефоном. Как бы там ни было, я жил ближе к Паулиной матери, чем сама Паула. И немного погодя поневоле утер глаза перевязанной культей.
— Ты ни в коем случае не должна винить себя, — сказал я.
— Не понимаю, о чем ты, — сказала Паула. — С какой стати мне винить себя?
Я слышал, что она жует. Не иначе как кебаб. По-моему, в те годы она питалась одними кебабами.
— Нелегко тебе, — продолжал я. — Вдобавок это турне, которое придется прервать.
— Зачем? — спросила Паула. — Что случилось, то случилось. Я не могу обмануть публику. Мама никогда бы такого не пожелала.
— Это верно, — согласился я. — Она бы в гробу перевернулась.
Вообще-то я выразился неправильно, ее ведь даже не похоронили еще. Мы долго молчали, все казалось нам нереальным, уму непостижимым и, пожалуй, до сих пор осталось таким.
Наш разговор наверняка был куда длиннее и содержательнее, чем представляется сейчас, когда я изо всех сил стараюсь вспомнить его и записать. Думаю, так обстоит со всеми разговорами, какие я пытаюсь воспроизвести. Я их резюмирую, и они становятся стилизованными, как пейзажи Руссо или, скорее, Файнингера.
— Мне бы очень хотелось, чтобы ты была не так одинока, — сказал я. — И будь поосторожнее со всякими там пилюлями и таблетками.
Об этом я мог бы и не говорить, Паула даже магнецил никогда не принимала.
— Я не одинока, — сказала она. — Он здесь, со мной. Уже целую неделю.
Она, конечно, назвала его по имени, но я не могу последовать ее примеру, ведь он продолжает работать в Стокгольме и в своей загородной частной клинике, совесть не позволяет мне выдать его, то бишь пластического хирурга. Я тоже говорил о нем так, будто он мой давний знакомый. Он сумел вырваться с работы и из семьи, чтобы побыть с Паулой. Журналисты ни о чем не пронюхали.
Как раз тогда газеты обсуждали ее скорую свадьбу с норвежским судовладельцем.
И я сказал ей, что очень рад, что именно его присутствие ей как раз и нужно, и сразу успокоился, а потом спросил:
— Ты домой приедешь?
И услышал в ответ, что сюда она никогда не приедет, маклер все продаст, она больше не желает видеть ни дом этот, ни мебель, ни музыкальные инструменты; вздумай какой-нибудь пироман прямо сейчас спалить ненавистное наследство, она ему только спасибо скажет.
И тут мы оба вдруг рассмеялись. Правда, поспешно и несколько судорожно.
Затем Паула попросила меня сходить в музыкальный магазин, проверить, все ли там в порядке, — может, кран какой не закрыт или плита включена. Еще она сказала, чтобы я заодно прикинул, не хочу ли взять что-нибудь себе, она, мол, уверена, что мама бы ее поддержала.
— Господи, если тебя это хоть немного порадует, забирай весь дом, — сказала она.
— Спасибо, — сказал я. — Но у меня и так слишком много всего.
Под конец Паула сказала:
— Вчера я выступила просто замечательно. Жаль, мама меня не слышала. Никогда я так здорово не пела.
Мне почудилось, что голос ее на миг стал резким и неуверенным.
— Может, все-таки произошло недоразумение, а? — сказал я. — Может, напутали?
— Нет, — сказала Паула. — На вставной челюсти был идентификационный номер.
Несколькими страницами раньше, когда рассказывал, как полиция установила личность Паулиной матери, я забыл упомянуть об этом. По закону, все вставные челюсти снабжены идентификационным номером.
— Вообще-то я, наверно, могла бы понять, что именно это и должно было с нею случиться, — сказала Паула.
Я встал с пола, глянул в окно и увидел, что в спальне дома напротив горит ночник. Наверно, она думала, что вернется домой ночью, в потемках.
— Без нее здесь ужас как пусто, — сказал я. И отчасти это была правда.
Потом я долго стоял у окна, глядя на ее дом. Жалюзи поломанные, перекошенные, штукатурка у двери в магазин и на углах обвалилась, водосточные трубы проржавели и во многих местах держались на честном слове, в неоновой вывеске светились только «м» и «ка», а «узы» погасли еще несколько лет назад. Она всегда твердила, что любит этот дом и в один прекрасный день, когда сделает капитальный ремонт, мы глаза вытаращим от изумления: она обошьет его белыми деревянными панелями, пристроит крыльцо с колоннами, а на крыше установит часы с боем. Ну а покамест просто присматривает за ним, вроде как за старинным памятником архитектуры.
Мне совершенно не хотелось идти туда, пусть бы этот дом так и стоял нетронутый, заколоченный и продолжал потихоньку разрушаться, через несколько лет он бы сам собой развалился, исчез без следа. Пришлось принести на веранду стул и влезть на него, иначе моя неуклюжая левая рука не сумела бы извлечь ключ из подвесного вазона с засохшей фуксией, где мать Паулы, как обычно, его спрятала.
Последний раз я заходил в этот дом несколько недель назад, и непонятно почему все там словно бы изменилось, стало незнакомым. Но я быстро сообразил, что на самом деле внутри ничего не изменилось, только мать Паулы исчезла, не заступала мне дорогу, не сновала вокруг, отвлекая мое внимание жестикуляцией, возгласами, пестрой одеждой, не садилась за рояль, вынуждая меня смотреть, как она играет упражнения.
От пола до потолка стены сплошь были увешаны конвертами от пластинок, афишами, газетными вырезками и пресс-анонсами, которые она воровала возле киоска, и обложками еженедельников — ни пятнышка обоев или краски не видать.
Паула, всюду Паула.
Хотя кое-где и другие: монакская принцесса, какой-то автогонщик, молодой Кеннеди, которого в США заподозрили в торговле наркотиками, оперные дивы, признавшиеся в своих лесбийских романах, Джон Траволта, Ингмар Бергман. Она будто хотела сказать: Паула не совсем одинока, есть и другие вроде нее, несравненное и абсолютное способно принимать самые разные формы, масштабная жизнь всегда уязвима и загадочна.
На кухне я немного постоял перед снимком, где Паула и ее отец позировали с пустой миской и сковородой, на вид вроде как действительно что-то стряпают сообща, и я, хотя присутствовал при этом как зритель и знал, что снимок постановочный и насквозь фальшивый, невольно поверил в его правдивость. И не мог отделаться от ощущения, будто я и сейчас там, пусть и незримый.