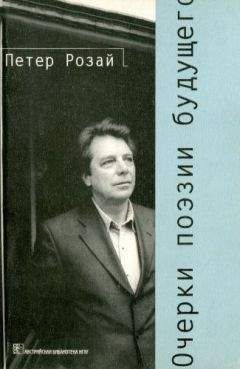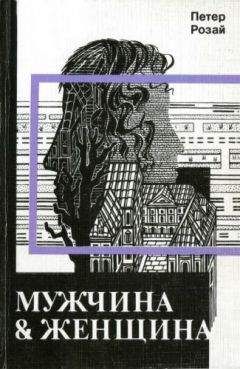Блуждающий взгляд Клоккманна остановился в центре композиции: великолепные радуги пробивались сквозь угрюмые тучи, горели огромные звезды, стремительно всплывшие из глубин. За ними раскинулись темные, черные просторы. На миг черты юноши исказила гримаса зевающего чёрта, вокруг которого вились стервятники. Ангелы уже держали перед собой свитки с нотными листами и выпячивали губы.
— Боже мой, — сказал Клоккманн, зачаровано глядя на его лицо, которое опять казалось землистым и помятым: бледные, поросшие щетиной щеки, тонкие слюнявые губы.
— Да это же мой отец! — воскликнул Клоккманн. — Папа! А за ним наш буфет! На газовой плите горит огонь! Не бей меня! Где мама? У нас есть яичные клецки с салатом из огурцов? Словом, он погрузился в детские воспоминания, в душный мирок своего прошлого — с мукой и ужасом, — но это уже касается лично его, да еще, пожалуй, какого-нибудь психоаналитика или психолога.
* * *
О последней главе нам известно немного. Мы сожалеем об этом, ибо это как-то нарушает симметрию, и сразу во всем сознаемся, чтобы никого не обнадеживать попусту.
— По моему распоряжению вы назначены директором нашего агентства по мировым рекордам, — сказал Сэйл, — ваша попытка установить рекорд произвела на нас впечатление.
Клоккманн, облаченный в безупречный, облегающий фигуру деловой костюм, сделал вид, что пропустил мимо ушей вторую часть этого спича, и сказал:
— Так, значит, оно тоже принадлежит вам?
— Ну, разумеется, — успокоил его Сэйл.
О самом Сэйле нам тоже известно не слишком много: голова его была сгустком чистой энергии, как сказал бы физик. Чтобы получить верное представление о Сэйле, нужно призвать на помощь фантазию — нашу неверную помощницу — и вообразить его среднестатистическим директором, начальником, только пусть вместо головы у него будет большая электрическая лампочка, такая яркая, что самой колбы не видно: один только свет — свет!
Они шагали наверх среди труб.
Для ясности надо сказать, что они вдвоем — Клоккманн не мог сдержать радости от сознания того, какую он сделал карьеру, — передвигались в недрах некоего здания: снаружи оно выглядело как гладкий куб, хотя размеры его были таковы, что рассмотреть его форму можно было только с очень большой высоты, на которую поднимается какой-нибудь реактивный самолет, а изнутри — как бы это объяснить: собственно, внутри тут были сплошные трубы или трубки, которые тянулись вверх порознь или пучками, каким-то таинственным образом соединяясь и разветвляясь.
Что же передавалось, текло или шло по этим трубам? — Скажем прямо — золото, чистое золото, только в жидком виде, так высока была его концентрация: золото, текущая жижа с серыми вкраплениями волокон целлюлозы, оставшейся от бумажных денег. Нетрудно себе представить, как сияли, блестели и сверкали эти гладкие трубы или трубки!
Само собой разумеется, золотой поток циркулировал по зданию совершенно бесшумно. — «Здесь все без обмана», — подумал Клоккманн, зачарованно глядя на золотую кровь, тихонько пульсирующую в этих жилах. Никаких клопов.
Надо еще отметить, что снаружи эти свитые в петли трубы образовывали гладкий, хотя и слегка волнистый, — наподобие поверхности мозга, — рельеф. Так что этот гигантский куб походил на квадратный мыслительный аппарат.
Впрочем, то обстоятельство, что золото перекачивалось по трубам, придавало интерьеру отдаленное сходство с внутренними органами, скажем, с сердцем, увенчанным красными коронарными артериями.
Сердце в футляре?
— Сколько же там всего внутри? — спросил Клоккманн, широко взмахнув рукой.
— Все, что есть! — сказал Сэйл.
— И я правда теперь тут директор? — без конца спрашивал Клоккманн.
— Вы что думаете, я тут с вами в бирюльки играю? — Сэйл то шагал впереди, то отставал. Его голова сияла над плечами.
Вертикальные трубопроводы, словно раскалившись, переливались всеми цветами побежалости, как пышущий жаром металл: темно-красным, зеленовато-голубым, зеленым.
Светлый, чистый, незамутненный, невесомый поток денег и золота! Бабки!
Сэйл проворно скакал по лестницам, по сходням.
Нередко его светящаяся голова, как блуждающий огонек, как бешено трепещущее пламя, исчезала в дебрях труб.
Клоккманн в который раз позвал Сэйла:
— Господин Сэйл! Мистер Сэйл!
Вот он и остался один.
Ну и ладно! — Он погладил рукой пиджак на груди. Он едва не прослезился, глядя на лес сверкающих, мерцающих, вспыхивающих золотых колонн. — Что бы сказала мама? Вон он как далеко пошел! Кто бы в этом сомневался? — Снегопад? Рождество?
Он вытянул голову, лицо у него горело: трещина там, что ли? И правда! Трубы в одном месте раздались — теперь они напоминали небрежно перевязанный пучок спаржи или горсть вермишели.
Трещина разрасталась, расходилась во все стороны: денежные трубы заполоняли все вокруг, раскачивались, болтались, прогибались. Вдали между ними промелькнула светящаяся голова Сэйла: она мерцала! Мигала! Тревога!
Сэйл подавал ему знаки, размахивая поднятой рукой.
Все заволокло клубами дыма.
Вцепившись в первую попавшуюся денежную трубу, Клоккманн полетел, рассекая ледяной воздух. Он взмывал все выше и выше. Трубы раздвинулись, и он на миг повис враскорячку, но тотчас оседлал одну из труб, словно это был игрушечный конек на палочке. Тут все предстало перед ним в какой-то странной обратной перспективе, и он увидел гигантского золотого червя снаружи, во всей его бесстыдной наготе: его медленно волочило, — казалось, он потерял всякую опору, — по заснеженному, подернутому инеем полю. Клоккманн ясно видел, как под ним с треском подминаются пучки заиндевевшей травы, испускающей райский блеск. О чем он подумал? — Как ни парадоксально, эта картина навела его на мысль о чисто вымытых, накрашенных женщинах, о любовных усладах. Судя по всему, это будет последняя мысль Клоккманна в нашем пересказе: чтобы получше все разглядеть, он нагнулся вперед, словно подставляя шею под топор палача. Из-под пиджака у него выскользнул галстук, кончик которого одиноко, как увядший цветок, затрепетал на искрящемся ветру.
По мерзлым полям, которые стремительно распадались на отдельные, вздыбленные ледяные глыбы, бежали люди. Повсюду был сплошной лед, озаренный северным сиянием. Мыльные пузыри. — А как же дым? Он-то откуда валил?! — Дым поднимался из-под кромок потихоньку разгорающихся ледяных глыб, собирался в темные облака, за кулисами которых вздымались стреловидные опоры гигантского «йо-йо», размером с реи парусника. Огонь уже перекидывался с одного человека на другого. Люди носились или, шатаясь, ковыляли по льду, оставляя за собой яркий шлейф пламени. Из зубов у них ручьями струилось зубное золото, из свисающих, как лопаты, рук хлестала кровь, — ее толстые, как ветви коралла, струи вырывались из пальцев. Спереди неслись, отплясывая, кружась и оглашая громким звоном студеный воздух, стопки монет, сверкающие смерчи из монет и банкнот, словно спятившая, сбившаяся с такта балетная труппа. Сверху восседал Сэйл, который дирижировал руками, управляя своей труппой, и мочился в огонь, стараясь разжечь его поярче: горючая моча? Оливковое масло? — Нередко одна-единственная крыса с горящей шкуркой может запалить целый амбар, целый дом, так и люди, словно живые факела, волей-неволей разносили огонь по просторам. Огромная радуга, наподобие вселенского нимба, выгибалась на горизонте над равниной, распадавшейся на светлые и черные шахматные клетки, которая даже там, на краю, кишела мужественными, отчаявшимися, беспомощными существами. — Никто не поможет! Никто не спасет!
Трудно было разобрать, что там творилось: дело нешуточное, это уж точно! Мир распадался. Все вдребезги.
Пылающие расщелины между глыбами все ширились и уже напоминали адские бульвары или морские протоки между островами. Трескающаяся кромка закручивалась вверх, как бордюр, который тут же вновь проседал: и как прежде пламя охватило лед, так сейчас из огня взметнулись огромные, высотой до небес, волны, черные волны, в которых ничего, ну совсем ничего не проглядывало: пустые, черные волны! Проливы из черных сливок! — Зрелище было ужасное. Это и был ужас.