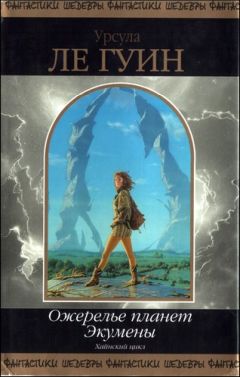Телефонная интермедия
«Дух Дельвига арестован!»
«Как арестован? Он же дух! Он же неприкосновенен!»
«А вот так — сидит теперь в Крестах под семью замками».
«Да, оттуда не сбежишь».
«Для духа нет преград — ему и Кресты нипочем».
У самого синего моря возвышается дом на семи столбах, на семи ветрах. Живет в том доме другой Фуражкин — одиночествует с памятью смертной. Встает по утрам, протирает кристаллы военно-морского бинокля и смотрит в безбрежную даль. Там петровские форты синеют горбатыми чудовищами, выплывшими из пучины. Там купол Кронштадтского собора светится маяком неугасимым, опускаясь из-за рваных облаков. Там мелкие суденышки снуют по морскому фарватеру, барахтаясь в неизбывных волнах. «Окнище, — вспоминает другой Фуражкин знаменитую дефиницию Альгаротти. — Окнище в Европу».
Рядом с окнищем в Европу висит на стене окнище в Историю — стародавняя картина императорского академика Блинова, изображающая прибытие французской эскадры в юбилейный Санкт-Петербург — салют над кораблями клубится голубыми дымками, салют над набережной кружится страусиными перьями. «Как славно начинался минувший век! — глядит на картину Фуражкин. — С мишурной пальбы начинался, с порохового восторга начинался, с ветерка перистого возникал! Увы, где теперь алые паруса мечтаний, отпылавшие на горизонте?»
Другой Фуражкин, как заправский кок, приступает к приготовлению неповторимого питерского разносола — корюшки под хреном. Он тщательно потрошит серебристую рыбку, источающую весенний запах свежего огурца, на минутку опускает ее в крепкий соленый раствор, а затем обмакивает в хрущатой муке и жарит на чугунной сковородке, брызжущей жгучими пузырьками подсолнечного масла. Пока рыбка обретает дорогой золотистый цвет, натирает корешок слезоточивого хрена, укрощая его крепость итальянским винным уксусом и крупной щепотью сахара. Затем полоски обжаренного золота укладывает на старинную тарелку, по краям которой кружатся синие петровские галиоты, и обильно поливает сладким хреном. Вот и самодельная настойка — чистый спирт из аптечного погребка да пахучая мята из берестяного туеска — уже мерцает на столе.
«Ну, чтоб флагшток стоял, и бронированная палуба блестела!» — опрокидывает жестяную кружку Фуражкин и в одиночестве закусывает. Виват, корюшка под хреном!
Из окнища Европы выплывает океанский лайнер, мерцая серебристыми изгибами. Он рассекает невские воды штевнем — высоким, острым, гордым. И видится Фуражкину, будто на штевне драконья голова пестроцветная яростно извергает феерический огонь, а на корме чешуйчатый хвост жаром горит. «Серебряный Змей, — читает другой Фуражкин надпись на борту. — Великолепное имя, достойное корабля викингов. Но нет на нем алых парусов мечтаний, и стрелка корабельного барометра наверняка показывает на пустоту. Туда направлена и мишурная пальба, и прочий пороховой восторг. И вот реют свободные флажки мира над седой пучиной — сами по себе».
У персидского кота Тимофея — отличная родословная. Его эпическим дедушкой был Вергилий, названный в честь певца тучных пастбищ, сел и вождей, а отцом — романтический Гораций, утонченный искатель любви с зеркальными отражениями. Сам Тимофей был наречен во славу древнегреческого кифареда, приладившего к семиструнной лире барбитос еще четыре струны:
И вот, владея слухом верным,
Теперь пришел другой колдун,
Который чистым звукомером
Одиннадцать настроил струн.
Однако судьба искусного кифареда, свободного и независимого, а потому гонимого отовсюду, отразилась и на кошачьей участи. Кота передавали из рук в руки, как бульварную газету. Наконец, он потерялся, заодно потеряв свое природное имя, и нашелся в Шереметевском особняке, где обрел другое прозвище.
«Ну, Васька так Васька», — решил Тимофей и вульгарно пометил ножку священного дивана свободы, насквозь пропахшего рыжим иностранным собратом, за что был тотчас наказан служительницей. Эта служительница не давала ему проходу, пока за персидского кота не вступилась черная штормовка, явившаяся невесть откуда. Штормовка поместила Тимофея в мешок и отнесла к четырем углам, расположенным у самого синего моря.
«Верую, ибо чудесно» — увидел он ученую надпись в красном углу, озаренном божественными квадратами, крестами и кругами, и мгновенно сообразил, что его очередным хозяином стало существо возвышенного склада. В остальных углах размещался склад различных раздумий, стиснутых золочеными переплетами. Тимофей облюбовал некие небесные размышления, украшенные ночной супрематистской конструкцией. Они валялись на полу и выглядели бесхозными, требуя своего обозначения.
«Ай да Васька! — вскрикнула штормовка, обнаружив, что небесные размышления Розенштока, так сказать, Хюсси плавают в благовонной лужице. — Унюхал сходу безбожника!»
Суть в том, что Розеншток, так сказать, Хюсси отрицал всяческую веру, всяческую религию. «Бог, — рассуждал он, — это просто наша способность высказывать истину, но так, что высказывание становится еще и событием». Возвысив слово до заоблачных небес, Розеншток, так сказать, Хюсси на самом деле низринул его в мрачные бездны земли: «Всякий, кто говорит, верует в Бога, потому что говорит». Неизвестно, стало ли событием это парадоксальное высказывание среди говорящего и, в частности, богохульствующего населения. Однако персидский кот Тимофей сходу разобрался в мудреном словоблудии, и достойно ответил американскому мыслителю от имени всех бессловесных тварей Божьих. Его жиденький ответ стал настоящим событием, по крайней мере, в одном из четырех углов.
Тонкое чутье на настоящесть персидский кот Тимофей приобрел еще в отрочестве, когда питался ломтиком чарджуйской дыни, сердечком астраханского арбуза, кружком эквадорского банана. К сожалению, вместо этих юго-восточных лакомств новый хозяин потчевал его то жирными русскими шкварками, то тощими латышскими хвостами. А в тот день он вообще жарил весенние огурцы на подсолнечном масле. «Ну, уж дудки! — решил Тимофей. — Жареными огурцами я точно завтракать не буду!»
Он расположился на подоконнике, созерцая за окном праздничный каботаж серебристого океанского лайнера. С кухни долетали заманчивые приглашения разделить трапезу, но Тимофей только почесывал за левым ухом да продолжал созерцать. Наконец, хозяин не выдержал и, явившись к подоконнику с полоской обжаренного золота, обнаружил кота в положении лежачего забастовщика, молча протестующего против хоровода разноцветных флажков над океанским лайнером:
«Васька, ты что — антиглобалист?»
Капитул — это не безоговорочная капитуляция. Капитул — это мистерия рыцарского ордена, на которой выпиваются бочки капитанского джина, пожираются горы жареных каплунов и поются веселые куплеты о ненасытных капуцинах. Издавна капитул заседает в средневековом замке Змеиное логово, следуя мудрому завету весельчака Франсуа Рабле:
Опустошайте кубки, когда они полны!
Наполняйте кубки, когда они пусты!
Иногда эта блестящая команда обжор и пьяниц отправляется на корабле «Серебряный Змей» странствовать по морям-окиянам, причаливая к иным берегам и фраппируя иные прибрежные окрестности. В Петербург эта команда явилась на юбилейные торжества и устроила капитул в своем корабельном чертоге, отделанном золотыми зеркалами, раковинами скатного жемчуга и огромным трезубцем морского царя, куда пригласила отдельных представителей туземной элиты, чтобы обучить их европейским стандартам винопляса.
К приходу Поребрикова и Бордюрчикова обученными оказались директор водочного завода, директор собачьего питомника и директор палаты высокого качества жизни. Стоя на коленях, они уже поклялись ради святого Винсента спустить водочный завод и цепных псов, а также опустить европейский стандарт до уровня прожиточного минимума петербуржцев. И теперь вовсю плясали, корча рожицы.
Между тем, трубят златокованые трубы. Обрюзгший председатель поднимается с трона, подает магический знак, и начинается главное действо — посвящение будущего губернатора Яблочкова в рыцари духа и брюха. Петр Алексеевич Яблочков, страдающий наполеоновским комплексом «от горшка три вершка», вытягивается на цыпочках так, что его треуголка шаловливо касается инкрустированного пупка Волочайкиной. «Как кыбла для молящихся твой лик, — млеет интеллектуальная дамочка, эротично вращая атласными шальварами, — но свет его и в кабачок проник».
Председатель преподносит Яблочкову наполненный кубок, обвитый золоченой змейкой, а затем троекратно ударяет по лбу причудливо изогнутым древком виноградной лозы и вешает на грудь пурпурную ленту с серебряной чашечкой. Чашечка повисает тяжелой мученической веригой, и новопосвященный рыцарь рушится на колени.