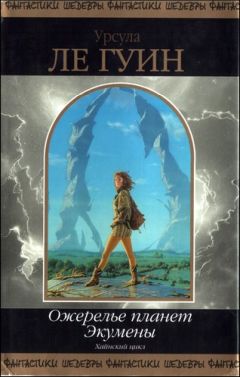Когда-то самый большой изумруд принадлежал царю Соломону, который преобразил его в священный сосуд. Этот сосуд был захвачен крестоносцами в Палестине и доставлен в Геную, где поначалу хранился в железном сундуке дожа, а потом был торжественно перенесен в собор святого Лаврентия. По повелению императора Наполеона, покорившего генуэзцев, священный сосуд изъяли из собора, как трофей, и отправили в Париж, где вскоре признали его обыкновенным сосудом густо-зеленого стекла и возвратили назад. Так самый большой в мире изумруд оказался подделкой.
Вообще, подделка есть плод зеркального ума, стремящегося воспроизвести идеальный образец, созданный Творцом, и уже в силу этого являющийся неповторимым. Искусством подделки в совершенстве владеет дьявол, который способен лишь подражать творению Божьему. У дьявола нет своей творческой идеи: он умеет только заимствовать, копировать, профанировать. Увы, Петр Первый тоже был копировщиком — он старательно подражал иноземным образцам. Как отмечал Жан-Жак Руссо, «у Петра не было подлинного гения, того, что творит все из ничего — он имел подражательный талант».
Изумрудный город, построенный по чужим чертежам, целое столетие пристраивался к чужим именам. Он сказывался то Новым Римом, то Новым Амстердамом, то Северной Венецией. Так всегда случается, когда отсутствует свое собственное Я — свой собственный миф. В средневековье подобное самозванство называлось научным термином — translatio nominis. Как будто, присвоив другое имя, можно обрести и другую сущность — ее красоту, ее великолепие, ее славу. А получается, что никак не получается — в Штатах есть и Москва, и Петербург, но они все равно являются заштатными городишками.
А русский Петербург стал мировой столицей лишь тогда, когда придумал свою неповторимую легенду — легенду о том, как оживает камень Петра. Возвышался себе у невских вод громовой валун с простертой царственной рукой, и вдруг — воскрес, поднялся на дыбы и поскакал по мостовым, преследуя бедного умалишенного. Уже не имеет значения, настиг он его или не настиг, а вот то, что поднялся среди ночи и понесся во всю мощь, — представляется судьбоносным. Отныне в Петербурге каждый камень кажется громовым, кажется живым, поскольку знает и исподволь готовится. Но что он знает, к чему готовится, не знает никто, кроме камня. Может — опуститься на дно к чертогам морского царя, как Садко Новгородский, а может — поплыть вниз по течению, через моря-окияны, как Антоний Римский. В общем, каменный замысел — великая тайна, которая и составляет суть петербургской легенды.
А ведь все начиналось с обыкновенной подделки.
Конечно, сам Петр Первый не был подделкой хотя бы потому, что был первый. За ним последовали Петр Второй и наипаче Петр Третий, который наяву оказался ужасным бунтовщиком Емельяном Пугачевым. После четвертования на Красной площади в Москве имя Петра разбрелось на все четыре стороны, и теперь каждый, кому не лень, называл себя Петром. Особенно много Петров, понятное дело, скопилось на берегах Невы. Эти самозванцы даже создали дурацкое братство Петек, которых отличали особые петушиные гребешки, а именно:
наглость,
нахрапистость,
беспардонность,
бесцеремонность,
беззастенчивость,
бессовестность,
бесстыдность,
нахальство,
дерзость,
буйство,
неистовство,
исступление,
бешенство,
ярость,
гнев.
Эти петушиные гребешки были всего-навсего подобием страшной звериной маски, которую надевают на святки ряженые, чтобы отогнать смертную скуку-докуку и повеселиться вволю. На самом деле Петьки были самыми добрыми существами на свете, когда, готовясь к юбилейному карнавалу, проходящему под девизом «Больше Петров — меньше Петровых», натягивали оморяченные тельняшки, опоясывались пулеметными лентами с хлопушками и, подражая революционным матросам, отправлялись бесшабашной ватагою на простор.
На просторе Зимний дворец сияет, как невеста — затейливые белые букли, обрамляя высокие окна, ниспадают по нежно-зеленым стенам. А напротив жених красуется — строгое, стройное здание Главного штаба, увенчанное крылатой Никой, пламенеющей как кокарда. Чудится, вот-вот зазвучит духовой оркестр: баритоны изольют из раструбов густую медленную медь, а корнеты — звонкое переливчатое серебро, и сойдутся жених с невестою, закружатся в полонезе.
Но не бывать сегодня полонезу — улюлюкая, стремглав несется к Зимнему дворцу бесшабашная ватага революционных Петек на зафрахтованном грузовике, переделанном под мятежный крейсер «Аврора». Изо всей мочи дуют Петьки в три крейсерские трубы, как в дуду, и такая буйная, неистовая пляска начинается на просторе, что сдается — самой Александрийской колонне не устоять.
«Опаньки!» — притоптывает каблуком Петька и делает три проходочки по кругу. «Опаньки!» — притоптывает каблуком другой Петька и делает три приседания от пуза. «Опаньки! Опаньки! Опаньки!» — лихо отплясывает петушиная братва, свивая в ленту пышный стан, летя как пух от уст Эола. Где, как, когда всосала она в себя этот дух, откуда взяла эти неподражаемые неизучаемые приемы? Ответ прост: опаньки с притопом обретались в русском человеке изначально, поелику он всасывал эти неподражаемые приемы, как говорится, с молоком матери.
Ведь когда рождается французский человек, он зычным голосом орет: «Пить! Пить! Пить!», и его по доброму обычаю сразу же окунают в купель, наполненную красным бургундским вином. Когда рождается немецкий человек, он зычным голосом орет: «Жрать! Жрать! Жрать!», и его по доброму обычаю сразу же причащают к колбасам, набитым жирной свиной требухой. Когда же рождается русский человек, он безмолвствует, и его по доброму обычаю хлопают по заднице: «Опаньки! Опаньки!» И сразу же пускают по миру — плясать да выкаблучиваться.
«Дорогие петербуржцы! Мы с вами находимся на праздничном празднике среди веселого веселья, — необъятная телеведущая Юлия Перченкина взгромождается на карнавальный крейсер, каковой от девичьего подгруза дает сильный крен. — Здесь трубят в трубы и танцуют танцы различные исторические персонажи».
«Опаньки с притопом — это дело всенародное, — раскуривает перед телекамерой свою курительную трубку Исторический персонаж. — Это такая же священная потребность тела, как молитва — потребность души. Считается, что опаньки с притопом выше симфонической музыки Петра Чайковского и силлабо-тонической поэзии Петра Вяземского, поскольку только пляшущий человек, без всякого звукового сопровождения, сам по себе становится и строфой, и арфой, и Орфеем. Как учил один киммерийский мудрец, надобно плясать опаньки так, чтобы все наше тело стало лицом. Поэтому, наблюдая за пляской, будьте осторожны и не приближайтесь к плясуну, когда его разгоряченный лик превращается в другую часть тела».
Обычный галстук — черный в серенькую полоску или красный в белый горошек — свидетельствует о некоторой претензии его обладателя на мужское достоинство. Также иногда обычный галстук служит его обладателю своей оборотной стороной, когда надобно цивилизованно промокнуть засаленные губы.
Всецело устремленный к отшельничеству, Сам предпочитает боевой галстук цвета морской волны или ратного поля. Его галстук, пропахший дымом походных тревог и высокой доблести, выглядит суровым предупреждением, если не мрачным пророчеством. Но ведь не всякому русскому дано быть самураем и мужественно двигаться по пути Дао. К тому же галстук, тугим узлом затянутый на шее, всякому русскому напоминает, прежде всего, веревочную петлю, каковую перед повешением старательно намыливает палач хозяйственным мылом. Не случайно виселицы на Руси издавна именовались галстуками.
Другое дело — губернаторский галстук, мастерски сшитый из тонкого шелкового материала, отделанный золотой византийской вязью, окропленный чистыми изумрудными слезками. Он является символом подлинного величия и славы. Такой галстук не носят — такой галстук несут торжественно, как царскую корону или папскую тиару, ступая по красной дорожке полновластия.
Отсюда складывалось превратное представление, что губернатор с галстуком — это настоящий губернатор, а губернатор без галстука — это уже как бы и не губернатор, а некий местный авторитет на колесах. Во избежание путаницы постовые на перекрестках заранее предупреждались о приближении высокого кортежа: «Галстук едет!» Отдав честь и проследив дальнейший путь кортежа, постовые непременно отчитывались по рации:
«Галстук повернул направо».