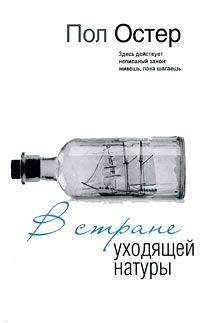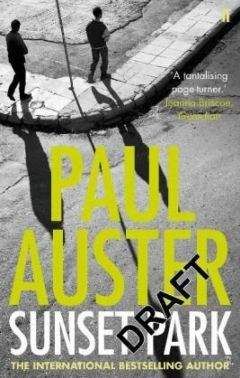В тот год весна пришла рано, и к середине марта в саду уже вовсю цвели крокусы — желтые и сиреневые выскочки на зеленых островках, окруженных еще не высохшей грязью. Ночи стояли теплые, и мы с Сэмом иногда прогуливались за оградой. За спиной дом с темными окнами, над головой едва различимые звезды, и мы одни. Во время этих коротких прогулок мне казалось, что я снова влюблена; я держала его за руку и вспоминала самое начало, ту Страшную Зиму, от которой мы укрывались в своей комнатенке, а по ночам вглядывались в черноту через большое перепончатое окно. Мы больше не говорили о будущем. Не строили планов, не рисовали картины, как мы вернемся домой. Настоящее поглощало нас целиком, работа и еще раз работа, после чего наваливалась усталость и ни на какие посторонние мысли сил уже не оставалось. Эта жизнь была не так уж плоха со своим призрачным равновесием, иногда мне даже казалось, что я счастлива тем, что принимаю все как есть.
Другое дело, что долго так продолжаться не могло. Этот мир, как правильно говорил Борис Степанович, был иллюзией, и грядущие перемены не остановить. К концу апреля давление в котле, если можно так выразиться, стало угрожающим. Виктория не выдержала и объяснила нам серьезность положения, а за этим последовали суровые меры экономии. Прежде всего, отказались от выездов на машине по средам. Все посчитали, что нет смысла тратиться на дорогое горючее, чтобы подбирать людей на улице, когда и без того приют осаждают толпы. Здравую мысль высказала Виктория, и даже Фрик не нашелся, что на это возразить. В тот день мы последний раз сели в машину — Фрик за баранкой, рядом Вилли, мы с Сэмом на заднем сиденье. Мы кружили по окраине, иногда заглядывали в тот или иной квартал. Фрик старательно объезжал колдобины, но все равно нас то и дело трясло и подбрасывало. Почти все время мы молчали. Мимо проносились пейзажи, которых больше нам не увидеть, через какое-то время мы вообще перестали смотреть и отдались во власть отчаяния из-за этих бессмысленных повторяющихся кругов. Потом Фрик поставил машину в гараж и с того дня, по-моему, ни разу его не открывал. Однажды, когда мы вместе вышли в сад, он показал пальцем на гараж и широко улыбнулся своим беззубым ртом:
— Вот, видел, а больше не видеть. Бай-бай и забыл. Только тут, — он постучал себя по темечку, — свет. Вжик, и ничего нет. Потом свет и забыть.
Затем пришел черед одежды, которую мы бесплатно раздавали нашим резидентам: рубашки и обувь, свитера и куртки, брюки, шляпы и ношеные перчатки. Борис Степанович закупал все это оптом у одного агента в четвертой избирательной зоне, но этот человек свернул свой бизнес, точнее, его выдавила из района местная шпана в союзе с Агентами По Восстановлению Качества, у нас же, в свою очередь, не осталось денег на такие закупки. В лучшие времена на одежду для резидентов уходило тридцать—сорок процентов нашего бюджета. Пришел момент затянуть пояса, и мы вычеркнули эту статью расходов. Не урезали, не пошли на постепенные сокращения — просто ликвидировали как класс. Виктория начала кампанию под названием «Чиним и латаем». Запаслась иголками с нитками, наперстками и грибками для штопки, а также разными лоскутами и принялась чинить лохмотья наших клиентов. Смысл кампании был в том, чтобы выкроить больше денег на еду, а так как важнее этого ничего не было, мы все согласились с ее доводами. Увы, по мере опустошения хозяйских комнат продуктовая составляющая тоже пострадала. Исчезало одно за другим: сахар, соль, масло, фрукты, кусочки мяса, которое мы себе иногда позволяли, редкий стакан молока. Всякий раз, когда Виктория объявляла об очередном витке экономии, наша глухонемая повариха Мэгги Вайн закатывала истерику, устраивая клоунскую пантомиму с расшибанием лба об стену и хлопаньем себя по ляжкам, точно курица, пытающаяся взлететь. Да, тот еще пикник. Мы все привыкли к нормальной еде, и эти лишения стали для нас болезненным ударом. Опять мне пришлось задуматься над извечными вопросами: что такое голод, где проходит грань между насущной необходимостью и излишествами, как приучить себя обходиться малым. К середине лета наш рацион свелся к крупам, крахмалу и корнеплодам — репа, свекла, морковь. Из скудного запаса семян нам удалось вырастить во дворе лишь несколько кустиков салата. Мэгги импровизировала, как могла, варила жиденькие супы, с отвращением смешивала фасоль с макаронами, варганила из клейкой муки расползающиеся клецки, которые лезли обратно изо рта. Упали мы, прямо скажем, низко, но как-то выживали. Худо было даже не то, что приходилось довольствоваться баландой, а сама мысль, что дальше будет еще сквернее. Мало-помалу стиралась разница между «Уобернским приютом» и остальным миром. Нас поглощала пучина, и мы не видели путей к спасению.
Вдруг исчезла Мэгги. В один прекрасный день ее не оказалось на месте, и никаких следов обнаружить не удалось. Вероятно, она ушла ночью, когда все спали, но тогда почему остались все ее вещи? Если она собралась сбежать, логично предположить, что она захватила бы с собой самое необходимое. Два-три дня Вилли искал ее в окрестностях, но, кого он ни спрашивал, в ответ все только пожимали плечами. Пришлось нам с Вилли взять стряпню на себя.
Не успели как следует развернуться — последовал новый удар: умер Фрик. Оставалось успокаивать себя мыслью, что он был уже стар (под восемьдесят, по словам Виктории), но это слабое утешение. Умер он во сне, в начале октября. Утром Вилли позвал дедушку, тот не ответил, парень начал его тормошить, и окоченевшее тело, к ужасу Вилли, грохнулось на пол. Конечно, самым большим ударом это было для него, но мы тоже, каждый по-своему, приняли это близко к сердцу. Сэм даже всплакнул, а Борис Степанович часа четыре не проронил ни слова — для него рекорд. Виктория внешне казалась невозмутимой, но ее безумный поступок показал степень ее отчаяния. Закон запрещает нам хоронить мертвых. Труп должен быть доставлен в один из Центров Трансформации. Нарушителя ждет суровое наказание: штраф в двести пятьдесят глотов, который следует заплатить немедленно, а иначе — исправительно-трудовой лагерь. Так вот, невзирая на строжайшие запреты, через час после печальной новости Виктория объявила, что Фрик будет предан земле в саду. Сэм попытался ее отговорить, но она твердо стояла на своем.
— Никто не узнает. А хоть бы и узнали, мы поступим по совести. Если мы спасуем перед каким-то дурацким законом, значит, грош нам цена.
Это была безрассудная и безответственная акция, на которую, по-моему, она решилась ради Вилли. В свои семнадцать лет этот недалекого ума парень жил в каком-то своем сумбурном мире, вне связи с окружающей действительностью. Фрик был для него ведущим, его руками, его мозгом. Теперь, оставшись без руля и без ветрил, Вилли как никогда нуждался в подтверждении, что он не один, что мы сделаем для него всё, невзирая на последствия. Погребение было огромным риском, но я Викторию не осуждаю — даже после того, что произошло.
Перед церемонией захоронения Вилли пошел в гараж, снял клаксон и добрый час его драил. Это был старомодный рожок вроде тех, что ставят на детские велосипеды: здоровый медный раструб и черная резиновая груша величиной с грейпфрут. Потом он вместе с Сэмом выкопал могилу под кустом боярышника. Шесть резидентов вынесли тело в сад, и, перед тем как они опустили его в могилу, Вилли положил Фрику на грудь клаксон. Борис Степанович прочитал написанное по этому случаю стихотворение, а затем Сэм и Вилли забросали тело землей. Хотя вся церемония была проще некуда — ни молитв, ни песнопений, — она получилась значимой, ибо сумела объединить всех, и сотрудников, и резидентов. У многих в глазах стояли слезы. На место погребения лег небольшой камень, и все ушли в дом.
Мы все прилагали усилия, чтобы как-то встряхнуть Вилли. Виктория возложила на него почетную обязанность стоять с ружьем на входе, пока я проводила собеседования. Сэм, взяв над парнем шефство, учил его правильно бриться, писать свое имя, а также складывать и вычитать. Вилли делал успехи. Если бы не злосчастный случай, я думаю, его дела пошли бы в гору. Но не прошло и двух недель после похорон Фрика, как в наш приют пожаловал констебль из Центрального полицейского управления, нелепейшего вида персонаж, пухлявый, краснолицый, в новой униформе — алая рубаха навыпуск, белые бриджи-галифе, черные ботинки из настоящей кожи и, для полноты эффекта, кепи. Он превосходно чувствовал себя в этом шутовском наряде и так выпячивал грудь, что казалось, отлетят все пуговицы на рубахе. Когда я открыла входную дверь, он щелкнул каблуками и отсалютовал. Если бы не ручной пулемет у него на плече, я бы, наверно, послала его куда подальше.
— Здесь живет Виктория Уоберн? — спросил он.
— Да, в числе прочих.
— Тогда не мешайте мне, мисс— Он убрал меня с дороги и вошел в прихожую. — Я приступаю к расследованию.
Короче. Кто-то стукнул в полицию, и он пришел по сигналу. Скорее всего, этот «кто-то» был одним из наших резидентов, но, пораженные таким неслыханным предательством, мы не рискнули вычислять, кто бы это мог быть. Понятно, что этот человек присутствовал на похоронах, а потом пришло время возвращаться на улицу, и он затаил на нас обиду. Так, по логике, получалось, хотя какое сейчас это имело значение. Может, просто месть, а может, что другое. Как бы там ни было, информация была убийственно точна. Констебль вышел в сад вместе с двумя помощниками, походил вокруг и указал прямиком на то самое место. Принесли лопаты, и эти двое не мешкая взялись за дело, прекрасно зная, что они сейчас обнаружат.