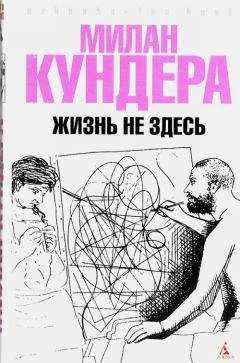Одна из дам приветливо спросила его, какие он пишет стихи. «Стихи», — пожал он плечами в растерянности; «Отличные», — присовокупил художник, и Яромил свесил голову; вторая дама посмотрела на него и сказала альтовым голосом: «Он выглядит среди нас, как Рембо в обществе Верлена и его собратьев на картине Фантэна-Латура. Ребенок среди мужчин. Восемнадцатилетний Рембо, говорят, выглядел тринадцатилетним. И вы тоже, — обратилась она к Яромилу, — выглядите совершенным ребенком».
(Трудно сдержать себя и не заметить, что эта дама склонялась над Яромилом с такой же суровой нежностью, с какой склонялись над Рембо сестры его учителя Изамбара, те воспетые поэтом искательницы вшей, когда он обратился к ним за помощью после одного из своих долгих скитаний и они мыли его, чистили и обирали с него насекомых.)
«Наш друг, — сказал художник, — счастлив тем, что он уже не ребенок и еще не мужчина, но счастье это недолговечно».
«Пубертатный возраст самый поэтичный», — сказала первая дама.
«Ты изумилась бы, — улыбаясь, сказал художник, — какие сложившиеся и зрелые стихи у этого не вполне созревшего и еще не сложившегося девственника…»
«Да», — кивнул один из мужчин в знак того, что знает стихи Яромила и согласен с оценкой художника.
«Вы не публикуетесь?» — альтовым голосом спросила Яромила вторая дама.
«Эпоха положительных героев и бюстов Сталина не очень благоприятствует его поэзии», — сказал художник.
Реплика о положительных героях явилась стрелкой, вновь переводящей дискуссию на колею, по которой она двигалась до прихода Яромила. Яромил был знаком с этими темами и мог легко включиться в разговор. Однако он вообще не слышал того, кто говорил. В его голове бесконечным эхом отдавались слова, что он выглядит тринадцатилетним, что он ребенок, что он девственник. Он, конечно, знал, что здесь никто не хотел его оскорбить и что как раз художник искренне любит его стихи, но тем хуже; разве в эту минуту ему важны были его стихи? Он тысячу раз отказался бы от их зрелости в пользу собственной зрелости. Он отдал бы все свои стихи за одно-единственное соитие.
Началась возбужденная дискуссия, и Яромилу ужасно захотелось уйти. Но он был в таком подавленном состоянии, что ему трудно было произнести фразу, которой он бы откланялся. Он боялся услышать свой голос; боялся, что голос будет дрожать или срываться и лишь снова выставит перед всеми его мальчишескую незрелость. Он мечтал стать невидимкой, на цыпочках уйти куда-нибудь далеко, уснуть, спать долго-долго и проснуться только лет десять спустя, когда его лицо состарится и покроется морщинами зрелого мужа.
Дама с альтовым голосом опять обратилась к нему: «Почему вы такой молчаливый, дитя мое?»
Он смущенно пробормотал, что больше любит слушать, чем говорить (хотя он вовсе не слушал), и осознал, что нет спасения от вынесенного ему студенткой осуждения, и приговор, который снова загнал его в девственность, отметившую его точно клеймом (господи, по нему все видят, что до сих пор у него не было женщины), был подтвержден еще раз.
Зная, что все окружающие смотрят на него, он спал жгуче ощущать свое лицо и чуть ли не с ужасом обнаружил, что на лице у него явно мамочкина улыбка! Он узнал ее безошибочно, эту тонкую, горестную улыбку, и почувствовал, как она прочно угнездилась у нею на губах и избавиться от нее невозможно. Он чувствовал, что на его лицо надета мамочка, что мамочка облепила его, как куколка облепляет личинку, отказывая ей в праве иметь собственный облик.
Так он и сидел в кругу взрослых людей, окукленный мамочкой, обнимавшей его и тянувшей назад из мира, к которому он мечтал приобщиться и который радушно принимал его, но как человека, еще к нему не принадлежавшего. Это было так невыносимо, что Яромил собрал все силы, чтобы стряхнуть с себя мамочку, чтобы выйти из нее; он постарался вслушаться в беседу.
Говорили о том, о чем тогда шли возбужденные споры среди всех художников. Современное искусство в Чехии всегда провозглашало себя приверженцем коммунистической революции; однако когда революция пришла, безусловной программой она объявила лишь доступный широкому пониманию народный реализм, а модернистское искусство отвергла как уродливое проявление буржуазного декаданса. «Это наша дилемма, — сказал один из гостей художника. — Предать модернистское искусство, с которым мы срослись, или революцию, которую мы исповедуем?»
«Вопрос поставлен неправильно, — сказал художник. — Революция, которая воскрешает мертвое академическое искусство и тысячами фабрикует бюсты государственных деятелей, предала не только современное искусство, но и самое себя. Такая революция не стремится изменить мир, но, напротив, законсервировать самый что ни на есть реакционный дух истории, дух фанатизма, тупого послушания, догматизма, верований и условностей. Перед нами нет никакой дилеммы. Как истинные революционеры, мы не можем согласиться с таким предательством революции».
Яромилу не составляло никакого труда развить мысль художника, логику которой он хорошо знал, но ему противно было выступать здесь на подхвате у мастера в роли чуткого ученика, послушного мальчика, ожидавшего похвалы. Он возжелал поспорить и, обращаясь к художнику, сказал:
«Вы же так любите цитировать Рембо: Нужно быть абсолютно современным. Я целиком с этим согласен. Но абсолютно новым является не то, что мы предвидим на пятьдесят лет вперед, а то, что нас шокирует и поражает. Абсолютно современным представляется не сюрреализм, существующий уже четверть века, а та революция, что совершается именно сейчас. То, что мы не понимаем ее, лишь доказательство ее новизны».
Его перебили: «Модернистское искусство было движением, направленным против буржуазии и ее мира».
«Да, — сказал Яромил, — но если бы оно было истинно последовательным в своем отрицании современного мира, оно должно было бы считаться и со своей собственной гибелью. Оно должно было бы знать (и даже хотеть этого), что революция создаст совершенно новое искусство, искусство по своему подобию».
«Выходит, вы согласны с тем, — сказала дама с альтовым голосом, — что нынче в макулатуру сдают стихи Бодлера, что вся модернистская литература под запретом, а кубистские картины в Национальной галерее быстро отправляются в подвалы?»
«Революция — акт насилия, — сказал Яромил, — это вещь известная, и как раз сюрреализм прекрасно знал, что стариков нужно безжалостно пинать со сцены, однако он не знал, что сам уже относится к ним».
Раздосадованный от унижения, он формулировал свои мысли, как казалось ему, точно и зло. Лишь одна вещь при первых же словах поразила его: в своем голосе он опять уловил особую, авторитарную интонацию художника, а своей правой руке не мог помешать воспроизводить в воздухе столь характерные для него жесты. Собственно говоря, это был странный спор художника с художником, художника-мужчины с художником-мальчиком, художника с его взбунтовавшейся тенью. Яромил сознавал это и потому, чувствуя себя еще униженнее, пользовался все более хлесткими формулировками, дабы отомстить художнику за жесты и голос, которыми тот поработил его.
Художник дважды ответил Яромилу длинной тирадой, но в третий раз смолчал. Он разве что смотрел на него, жестко и строго, и Яромил уже знал, что больше никогда не посмеет войти в его мастерскую. Все молчали, пока наконец не заговорила дама с альтовым голосом (на этот раз она говорила, уже не склоняясь над ним, как сестра Изамбара над завшивленной головой Рембо, а скорее печально и пораженно отстраняясь от него): «Я не знаю ваших стихов, но, судя по тому, что слыхала о них, думаю, они вряд ли могли бы выйти при том режиме, который вы так решительно защищаете».
Яромил вспомнил о своем последнем стихотворении про двух стариков и об их последней любви; он понимал, что стихотворение, которое он безмерно любит, никогда не увидит свет в эпоху радостных лозунгов и агитационных стихов и, откажись он от него сейчас, он откажется от самого дорогого, что есть у него, откажется от своего единственного богатства, без которого он будет абсолютно одинок.
Но было еще нечто более ценное, чем его стихи; то, чего он был лишен, о чем мечтал и что было далеко, — его возмужалость; он знал, что она достижима только поступком и смелостью; и если эта смелость приведет к тому, что он будет покинут, покинут всем, что ему дорого, — возлюбленной, художником, даже собственными стихами, пусть так; он хочет быть смелым. И он сказал:
«Да, я знаю, что эти стихи для революции совершенно непригодны. Я сожалею об этом, потому что люблю их. Но моя жалость, увы, вовсе не аргумент против их непригодности».
И снова воцарилась тишина, но чуть позже один из мужчин сказал: «Это ужасно», и он действительно содрогнулся, словно мороз пробежал у него по коже. Яромил почувствовал, что его слова вызвали у всех окружающих ужас, что, глядя на него, они видели перед собой живую гибель всего, что любили и ради чего жили.