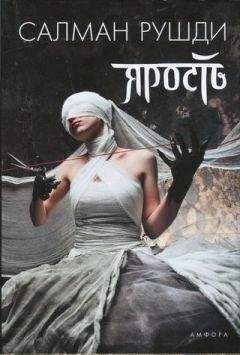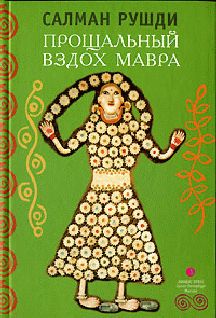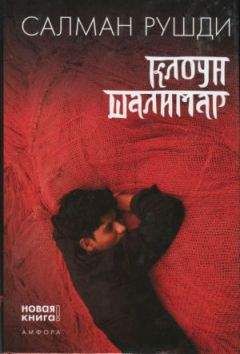Ознакомительная версия.
Соланки жили в просторном доме, и вой сигнализации не разбудил ни Элеанор, ни Асмана. Жена уже заснула, лежа в постели. В его постели. Ну и какой толк, спрашивается, от пожарной сигнализации? Чем и кому она поможет? Ух. Вот он в комнате, стоит над ними в темноте с разделочным ножом в руке, и нет никакой сигнализации, способной предупредить их об исходящей от него опасности. Элеанор лежит на спине, слегка приоткрыв рот, и тихонько посапывает. Сын, всем тельцем прильнув к ней, спит глубоким сном по-настоящему невинного и доверчивого существа. Асман что-то неразборчиво пробормотал во сне, и его слабенький голосок прорвался сквозь вопли демонов и привел отца в чувство. Перед Соланкой лежало его единственное дитя, единственное в этом доме живое существо, все еще уверенное, что мир полон чудес, а жизнь — радостей; что все имеющее значение происходит сейчас, будущее слишком далеко, чтобы о нем думать, а прошлое уже не важно, ведь оно миновало, и слава богу. Малыш, надежно укрытый уютным, волшебным плащом детства и уверенный, что находится в полной безопасности, что все вокруг любят его больше жизни. Малик Соланка испытал настоящий ужас. Что он делает здесь, стоя над спящими с ножом, да, с ножом в руке? Ведь он не из тех людей, что творят подобные вещи. Не может он оказаться одним из нелюдей, о которых каждый день пишет желтая пресса. Грубые мужчины и злобные женщины, которые убивают собственных детей и поедают бабушек, все эти хладнокровные серийные убийцы и не знающие покоя педофилы, бесстыжие эксгибиционисты и порочные приемные отцы, извращенцы-насильники и просто дебилы, самцы приматов. Мир полон необразованных и бесчеловечно жестоких выродков, но таких нет и быть не может в этом доме. А значит, он, Малик Соланка, в прошлом профессор Королевского колледжа в Кембридже, никак не может стоять здесь сейчас пьяный, сжимая в руке отточенный инструмент смерти. Но это он. Quod erat demonstrandum — что и требовалось доказать. Ты же знаешь, Элеанор, я никогда толком не умел обращаться с мясом. Разделывала его всегда ты сама.
Кукла, подумал он, отрыгивая винные пары. Конечно же! Во всем виновата она, эта дьявольская кукла! Он вышвырнул из дома все ее дьявольские подобия, но одному все же позволил остаться. Это было ошибкой. Это она вылезла из кухонного шкафа, заползла к нему в нос, спустилась ниже и вложила в руку тесак. Это она заставила его прийти сюда для кровавой расправы. Ничего, ему известно, где она прячется. Ей от него не уйти. Профессор Соланка резко развернулся и, бормоча что-то, вышел из спальни. Нож по-прежнему был у него в руке. Он не знал, проснулась ли Элеанор, открыла ли глаза сразу после его ухода. Если она видела его удаляющуюся спину, что ж, это ее дело.
Когда Соланка закончил свой рассказ, за окном на Западной Семидесятой улице окончательно стемнело. Теперь Соланка держал Глупышку на руках. Ее платье было в нескольких местах продырявлено и рассечено, а на теле четко различались глубокие порезы.
— Видишь, я не смог расстаться с нею даже после того, как сплошь изрезал ножом. Весь перелет до Америки держал ее на руках.
Казалось, в наступившей тишине кукла Милы безмолвно расспрашивает своего истерзанного двойника о его судьбе.
— Теперь я рассказал тебе все. Наверное, даже больше, чем ты хотела услышать, — вновь обратился к Миле Соланка. — Теперь ты знаешь, как эта кукла разбила мне жизнь.
Зеленые глаза Милы Мило блеснули. Она подошла к Соланке и взяла обе его руки в свои.
— Я не верю, что ваша жизнь разбита, — вкрадчиво проговорила она. — Поймите, профессор, это всего лишь куклы.
9
«Временами у вас такой взгляд, какой был у моего отца перед смертью… Затуманенный, что ли, — изрекла Мила, совершенно не задумываясь, как может истолковать ее высказывание тот, кому оно адресовано. — Будто резкости не хватает, как на фотографии, когда у снимавшего дрогнула рука. Как у Робина Уильямса в том фильме, где он постоянно не в фокусе. Я однажды сказала об этом папе, а он ответил, что так выглядят люди, которые слишком много времени провели в окружении других людей. Быть все время среди людей, сказал он, все равно что отбывать пожизненное заключение, периодически всем нам надо вырываться из этой тюрьмы. Папа писал — в основном стихи, хотя у него есть и несколько романов. Вы вряд ли про него слышали, но он достаточно известный сербохорватский автор. Даже не просто известный, а знаменитый, один из лучших. Мог бы претендовать на Нобелевскую премию. Nobélisable, как говорят французы. Хотя премии так и не получил. Слишком рано умер, я считаю. Уж поверьте мне. Он был хорош. Органическая связь с природой, приверженность традиции, тонкое чувство фольклора — он был из таких. Я его все время дразнила, что он всерьез верит, будто в цветах живут гоблины. А он шутил, что было бы лучше, если бы цветы жили в гоблинах. Это напоминало бы реку, чьи чистейшие воды плещутся у дьявола в сердце. Вы должны понять: религия имела для него большое значение. Он всю жизнь прожил в больших городах, но сердце его осталось где-то в горах. Говорили, что он стар душой. Но его сердце было молодым, понимаете? Правда было. А вокруг какой-то пандемониум, целая бочка обезьян. Всю жизнь. Не знаю, как он это выносил. Он мучился всю жизнь, всю жизнь люди надоедали ему. Мы провели в Париже несколько лет, после того как ему удалось вырваться из лап Тито, почти до девяти лет я ходила там в американскую школу. К несчастью, мама умерла, когда мне было три года, три с половиной. Ничего не поделаешь, рак груди, он убил ее очень быстро и очень болезненно, царствие ей небесное! В общем, папе писали из дома, а я любила открывать для него конверты, и вот, представьте себе, он получает письмо от сестры или какого-то другого близкого человека, и на первой странице стоит большой штамп: Данное письмо не подвергалось цензуре! Ха! В середине восьмидесятых отец взял меня с собой в Нью-Йорк на большую конференцию, организованную местным Пен-клубом. Про нее потом много писали, там еще закатывали грандиозные приемы: один устроили в Дендурском храме, подаренном Египтом США и заново собранном в стеклянном павильоне музея „Метрополитен“, другой — в доме Сола и Гейфрид Стейнберг. И никто не мог решить, где лучше. Норман Мейлер пригласил выступить в Публичной библиотеке тогдашнего госсекретаря Джорджа Шульца, а южноафриканцы бойкотировали его выступление, поскольку Шульц поддерживал режим апартеида. Охранники Шульца не хотели пускать внутрь Сола Беллоу, пока за него не поручился Мейлер, потому что Беллоу забыл дома приглашение и мог оказаться террористом. Представьте, как это, должно быть, понравилось Беллоу. А потом женщины-писательницы протестовали против того, что основные докладчики практически сплошь мужчины. И тогда то ли Сьюзен Зонтаг, то ли Надин Гордимер на них напустилась, сказала, что литература не обязана обеспечивать мужчинам и женщинам равное трудоустройство. А Синтия Озик — по-моему, это была она — обвинила бывшего австрийского канцлера Бруно Крайского в антисемитизме, хотя он был стопроцентным евреем и одним из немногих европейских политиков, озабоченных судьбой евреев, которые эмигрировали из Советского Союза. И вся его вина состояла в том, что он однажды встречался с Арафатом. По такой логике Эхуда Барака и Клинтона можно считать прожженными антисемитами, правда? Тогда Кэмп-Дэвид просто международный центр юдофобии какой-то. Папа тоже выступал. Конференция имела какое-то высокопарное название, что-то вроде „Воображение писателя vs. Воображение государства“. И после того как кто-то — не помню точно, Брейтенбах или Оз, кто-то из них, — сказал, что у государства нет воображения, папа возразил, что, напротив, у государства есть даже чувство юмора и он готов привести пример. И он рассказал ту историю с письмом, которое не было проверено цензурой. Я тогда сидела в зале и гордилась, что все смеются, а ведь конверт вскрыла именно я! Я тогда ходила с ним на все заседания. Да что там, я была просто без ума от всех этих авторов! Всю свою жизнь для меня, писательской дочки, книги были самым замечательным в жизни, и я так гордилась, что меня всюду пускали, хотя я всего лишь девочка. Было так приятно видеть отца с его равновеликими коллегами и убеждаться, что его уважают. И, кроме того, вокруг были сплошь известные имена, которые вдруг обрели реальную жизнь: Дональд Бартелми, Гюнтер Грасс, Чеслав Милош, Грейс Пейли, Джон Апдайк и все-все-все. Но к концу конференции мой папа выглядел так же, как вы сейчас. Тогда он оставил меня с тетей Китти из Челси — она не была мне теткой, они с отцом и знакомы-то были всего каких-то пять минут, зато близко… Видели бы вы, как на него смотрели женщины. Он был мужчиной, большим, сексуальным, с сильными руками и густыми усами, как у Сталина. Стоило ему просто взглянуть женщине в глаза и начать рассказывать что-нибудь о том, как ведут себя волки во время течки, и она уже была готова на все. Клянусь богом, эти женщины стояли к нему в очередь! Он просто сидел в своем гостиничном номере, а они выстраивались одна за другой, и хвост этой очереди был на улице. Одна честнее и добродетельнее другой, самые лучшие женщины, каких только можно себе представить, с дрожащими от вожделения коленками. Мне очень повезло тогда, что я любила читать и что в соседней комнате телевизор показывал американские программы. В общем, мне там было нормально. Очень даже ничего, только все время хотелось выйти и спросить у этих женщин, ждущих своей очереди: „Неужели вам совсем нечем больше заняться? Бога ради, у него всего лишь обычный член, ничего нового“. Да, я часто шокировала окружающих. Просто очень быстро повзрослела, видимо, потому, что всегда и везде была с папой, потому, что были только я и он против всего мира. Короче, я подозреваю, что тетя Китти ему понравилась. Он оценил ее выше прочих, поэтому подарил ей возможность две недели присматривать за мной, пока папа с двумя профессорами отправится в горы, кажется в Аппалачи. Уходил в горы — вот что он делал, когда хотел прийти в себя после передоза людьми. И он всегда возвращался оттуда другим, каким-то очищенным, просветленным, что ли, понимаете? В такие моменты я звала его Моисеем. Моисеем, который спустился с горы со скрижалями в руках. Отец, правда, возвращался со стихами. Так или иначе, я уже близка к развязке. В общем, не прошло и пяти минут после его возвращения из этого профессорского похода в горы, как ему предложили постоянное место в Колумбийском университете. И мы окончательно переехали в Нью-Йорк. Я была просто счастлива, а вот папе приходилось нелегко, он был не городской человек, я же говорила, к тому же европеец до мозга костей. Но он за свою жизнь уже научился работать, где бы ни оказался, и справляться со всем, что бы ни подкидывала ему жизнь. Ну, он, конечно, пил как настоящий югослав, курил по сотне в день, и сердце у него было больное. Он знал, что ему не дожить до старости, но принял твердое решение касательно жизни. Как „Негр с Нарцисса“, помните, у Джозефа Конрада? „Я должен жить, пока не умру“. Так он и вел себя всю жизнь — писал самые блестящие книги, блестяще трахался, курил самые крепкие сигареты и пил самое лучшее вино. Но потом началась эта проклятая война, и — я никак не могу понять почему — отец сделался другим человеком, таким я его раньше не знала. Он вдруг стал этим… как его?.. сербом. Знаете, он просто не мог пережить, что того, другого парня, о котором узнали все, тоже зовут Милошевич. На самом деле он изменил фамилию из-за этого, а не потому, о чем я вам раньше говорила. Чтобы отделить поэта Мило от этого бандита, фашиствующей свиньи Милошевича. А когда во всей бывшей Югославии — которую так тогда еще не называли — стало твориться полное безумие, мой отец попался разом на все антисербские провокации, хотя отлично понимал, чтó и для чего творит Милошевич в Хорватии и чтó собирается делать в Боснии, но вся эта антисербская ерунда буквально ослепила его ненавистью, и в какой-то безумный момент он решил, что его моральный долг — вернуться туда и стать совестью страны, выковывать ей душу и тому подобное, стать кем-то вроде джойсовского Стивена Дедалуса или сербского Солженицына. Я ему говорила, чтобы забыл об этом и думать, что на самом деле Солженицын просто старый дурак, который жил в Вермонте и мечтал о возвращении в Россию-матушку пророком, а когда вернулся, никто не захотел слушать его старую песню. Отец, говорила я, это точно не твой путь; ты — это женщины, выпивка, сигареты, горы и работа-работа-работа. Ты же сам хотел, чтобы именно это все в итоге прикончило тебя, разве нет? Никакие Милошевичи, банды убийц, а уж тем более бомбежки в твои планы не входили. Но он не стал меня слушать и, вместо того чтобы до конца вести собственную партию, улетел туда, в эпицентр ярости. Вот что, профессор, я собиралась вам сказать: не рассказывайте мне баек про ярость, я получше вашего знаю, что это такое. Америка, она всемогущая, а оттого полна страха. Она боится ярости остального мира и потому пытается убедить себя, что это просто зависть, — так говорил мой папа. Они думают, что мы все мечтаем оказаться на их месте, они все это говорят после нескольких рюмок, а на самом деле мы все уже на пределе и сил выносить их дольше у нас нет. Видите, мой отец знал про ярость все. Но в какой-то момент он вдруг забыл все свои знания и повел себя как чертов дурак. Потому что ровно через пять минут после того, как его самолет приземлился в Белграде — хотя это могло случиться и через пять часов, пять дней, пять недель, нет никакой разницы, — ярость разорвала его на клочки, такие мелкие, что нечего было даже собирать, чтобы сложить в коробочку и похоронить. А вы, профессор, элементарно свихнулись из-за какой-то куклы. Простите меня, конечно».
Ознакомительная версия.