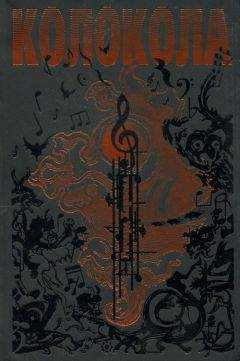Веки у меня были такими тяжелыми, что не было сил открыть глаза.
— Но он не просыпался, — умоляюще произнес Николай, и голос его дрожал. — Мне показалось, что он…
— Он молод и силен. Дайте ему поспать, — строго сказал доктор Рапуччи. — Я присмотрю за ним.
— Я сам присмотрю за ним, — запротестовал Николай.
— Я врач.
Я открыл глаза. Мне показалось, что комната слегка раскачивается. В проеме выбитой двери молча стоял Ремус, забыв о книге в своей руке. С подозрением он смотрел на споривших мужчин. Мне хотелось сказать Николаю — даже Ремусу, — чтобы они не оставляли меня наедине с этим доктором, но я был как в тумане, и слова не складывались во фразы.
Когда мои защитники ушли и мы остались одни, доктор Рапуччи наклонился ко мне. Заметив, что я не сплю, он улыбнулся. Приложил палец к своим тонким губам.
— Ты никому не должен рассказывать о том, что случилось прошлой ночью, — предупредил он. — Если об этом станет известно, тебе не позволят остаться здесь. Тебя заставят уйти из аббатства, и ты останешься один. Не доверяй никому, кроме твоего друга Ульриха.
Я не совсем понял, о чем он предупреждает меня, но при этом инстинктивно чувствовал, что он прав.
— Ты понимаешь, Мозес, что я сделал?
Я не ответил. В колеблющемся свете лампы мне показалось, что лиловые вены оплетают теперь и мертвенно-бледное лицо Рапуччи.
— Я сделал тебя музико.
Меня — музико? Эта рука, которая ворочалась и копалась во мне, сделала меня подобным Бугатти? Музико — это мужчина, — сказал Николай, — который не мужчина. Его сделали ангелом.
— Мозес!
Доктор Рапуччи все еще не оставлял меня. Сквозь окутывавший меня жар я постарался прислушаться к тому, что он говорит.
— В следующие несколько недель ты заметишь некоторые изменения в своем теле, — сказал он. — Пусть они тебя не пугают.
Рапуччи выпрямился и задул лампу. Слабый свет просочился в мою комнату из коридора.
— Когда-нибудь, — добавил Рапуччи откуда-то из темноты, — у тебя будет один из величайших голосов в Европе. Не забывай меня, Мозес. Не забывай того, кто сделал тебя таким, какой ты есть.
Я закрыл глаза.
И я правда не забыл. Много лет спустя, когда судьбе наконец было угодно привести меня в город Карла Евгения, я спрятал кинжал под плащом и сказал своему импресарио, что хотел бы встретиться с Рапуччи, знаменитым штутгартским «доктором музыки». Но этот человек, залившись краской, покачал головой. «Простите, мой господин, — ответил он, — мы не говорим о нем». В конце концов один старый рабочий сцены, приняв изрядное количество вина, уступил моим мольбам, и вот что я узнал: после происшествия со мной Рапуччи и вправду вернулся в Штутгарт и прожил при дворе Карла Евгения еще пару лет, кастрируя мальчиков, чтобы герцог мог иметь в своем распоряжении единственную к северу от Альп ферму музико. Позднее доктора повесили за связь с герцогиней.
Боль и жар очень скоро прошли, перестали болеть и мои яички. Через неделю они стали твердыми, как ореховые ядрышки. Прошло еще несколько дней. Проснувшись утром, я привычно ощупал себя под простыней — и быстро сел на кровати. Там было пусто.
Это был простой трюк, его и сейчас проделывают и хирурги, и брадобреи над тысячами мальчиков в итальянских землях. Доктор Рапуччи перерезал мне ветви внутренней семенной артерии. Не получая того, что им нужно для жизни, мои яички в конце концов атрофировались. В остальном же все осталось по-прежнему: никаких других изменений в себе я не заметил. Мой голос был так же высок и прекрасен, как и в день освящения храма, и лишь во время пения я ощущал отсутствие этой пары крошечных колокольчиков, когда-то звеневших у меня между ног.
Я чувствовал себя как обычно. Крылья у меня не росли. Я не стал высоким и широкоплечим, как музико Бугатти. И в то же время я точно знал, что операция, которую сделал Рапуччи, удалась — жалостливых взглядов Ульриха мне было достаточно. Надеюсь, вы не имеете в виду кастрата? Только не полумужчина! — так сказал Штаудах, когда Ульрих предложил, чтобы музико пел в его церкви. Я не мог понять ни кем я был, ни кем стану, но знал, что это есть нечто, что я должен скрывать. Я мылся только глубокой ночью и постоянно держал под рукой полотенце. Переодеваясь, я всегда закрывал дверь. Я никогда не спрашивал у Николая, для чего нужны были органы, которых я лишился. Я ни с кем не делился своей тайной, надеясь, что просто-напросто забуду о той ужасной ночи и ее последствиях. И несколько лет мне казалось, что я могу с этим прожить.
Года через два после того, как построили церковь, состояние фрау Дуфт заметно ухудшилось. Мне стало казаться, что кости ее растут. Кожа туго обтягивала ее подбородок и скулы. Она дышала так, будто чья-то невидимая рука с силой выталкивала из нее воздух. Ее голос шелестел, как сухие листья, и, хотя по-прежнему в ее глазах светилось тепло, каждое слово давалось ей с большими усилиями и болью.
Энергичный герр Дуфт стал мрачен. И Амалия, любившая эту больную женщину сильнее, чем любая другая девочка любит свою мать, стала к нему очень внимательна. Если в прежние времена она могла целый день танцевать и болтать чепуху, то теперь старалась выказать ему свою привязанность и отвлечь от печальных мыслей. «Ну почему Александр делал все, что велел Аристотель?» — спрашивала она у отца. А в другой раз восклицала: «Мозес очень хочет увидеть головы!» — и потом толкала меня до тех пор, пока я не кивал, хотя эти сосуды страшно пугали меня. Однако герр Дуфт оживлялся только тогда, когда речь заходила о его состоянии, которое с такой легкостью ему удалось нажить, или о переписке с венским магнатом, владельцем ткацкой мануфактуры, — они вместе строили планы о том, как расширят дело и их текстиль покорит весь мир.
Как-то вечером мы с Ремусом зашли в гостиную: Дуфт смотрел в окно, его лицо было серым (что казалось удивительным для человека, чей цвет лица обычно напоминал сырую говядину). Амалия безучастно уставилась в книгу, лежащую у нее на коленях, и не делала никаких попыток приободрить его, она даже не поприветствовала нас.
Внезапно в комнату ворвалась Каролина — казалось, она пряталась где-то у дверей, поджидая нас.
— Только не сегодня! — произнесла она таким тоном, будто говорила с капризными детьми. И тут же добавила, торопясь сообщить нам новость: — Госпожа очень плоха. Доктор боится, что она умрет.
Грузная женщина перескакивала с ноги на ногу, как неуклюжий, но очень резвый танцор. По ее глазам было видно, что она уже начала думать о новой фрау Дуфт, более совершенной и способной родить наследника. Она замахала руками, отправляя нас к двери. Я было попятился, но натолкнулся на Ремуса. Обычно он выскакивал из этого дома, как борзая, выпущенная из клетки, но сейчас на его лице читались упрямство и злость.
— Вы — как шакал, — пробормотал он достаточно громко, чтобы все могли его слышать.
— Прошу прощения? — произнесла Каролина Дуфт.
Но Ремус отвел от нее взгляд и уставился в пустую стену. Женщина строго посмотрела на меня, будто ожидая извинения.
Амалия с восхищением взглянула на Ремуса.
Внезапно Дуфт пошевелился. Казалось, он только увидел меня.
— Приходи на следующей неделе, — едва слышно произнес он, пристально глядя мне в глаза. — Ей будет лучше. Несомненно.
Я кивнул.
Он обращался только ко мне, как будто в комнате находились лишь мы двое.
— Мозес, нам просто нужно немного больше времени.
Ремус положил руку мне на плечо. Мы пошли к двери.
— Как-то Вольтер заболел оспой, — внезапно сказал Дуфт. Он встал, сделал несколько небольших шагов и протянул руку, останавливая меня. — Она почти убила его. Знаешь, что он сделал? Он выпил сто двадцать пинт лимонада. Это его излечило. — Дуфт, посмотрев на потолок, потер губы, и я испугался, что он сейчас заплачет. Его голос стал еще более слабым и иногда срывался. — Я и это заставил ее попробовать. Но оспы у нее не было, а так лечится только оспа. Если бы она у нее была… Тогда бы мы, по крайней мере, знали, как с ней справиться. Но у нее оспы нет. Разве ты не понимаешь? Каждая болезнь требует соответствующего лечения. А когда все болезни и все методы лечения перемешаны… — Он сделал вид, будто перемешивает воздух. — Бесконечность болезней. Бесконечность лечебных средств. Все смешано. Даже если бы ее лечил Аристотель, все равно это заняло бы целую вечность. — Он закончил свою речь, стоя так близко ко мне, что я услышал, как пальцы его ног скребут подметки туфель.
Я кивнул.
— Почему Бог это делает? — прошептал он мне. — Почему? Почему Он задает нам загадку, решение которой так трудно найти?
Мне очень хотелось, чтобы Николай был с нами — у него бы нашелся ответ. Он никогда не забывал о красоте Вселенной, не важно, насколько трудной была загадка, которую задавал Господь. Но Николая здесь не было, и поэтому Ремус положил руку на плечо Дуфту, как бы говоря: Да, ты прав. Это несправедливо. Потом мой сопровождающий потянул меня за руку, и мы ушли. Я смотрел на неподвижный силуэт Дуфта в проеме двери — казалось, он собирается ждать там моего возвращения.